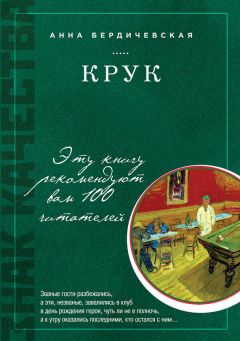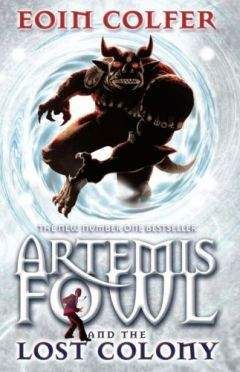– Видал. Но больше диких гусей. Каждую осень, когда они на юг летят, и каждую весну, когда на север. Вот такая же громада на Колву садится, но ваши лебеди молчат, а наши гуси гогочут. Когда поднимаются в воздух, километров десять летят над Колвой, низко летят, перьев свист и гогот далеко слышен… У меня гусиных перьев дома полно. Бывало, диктанты в классе ими писал… Ой, гляди-ка! Чего это с ним?.. Да он же снег клювом ловит! Молодой…
Действительно, один из лебедей выгнул шею, голову запрокинул и, раскрыв клюв, пытался поймать крупные хлопья. Паша и сам запрокинул голову, стал топтаться и кружить, ловя ртом снежинки. Пока не поскользнулся и не рухнул на заснеженный газон. На него тут же свалился Вася с криком «Не стреляйте в белых лебедей!», натер ему снегом физиономию, но тоже получил сугроб за шиворот, уже от Кузьмы.
– Les petits garsons![41] – сказала старушка под зонтиком, проходя мимо Сони, и внимательно посмотрела в глаза кудрявой девочке.
Соня, как будто от этого взгляда, вдруг замерзла.
Les petits garsons навалялись в снегу и побежали к машине. В «Золотой рыбке» их уже ждали отец Георгий с Давидом.
Паше понравились рыбки в аквариуме, но по-настоящему его поразило преображение Давида Луарсабовича Дадашидзе. Темно-серый подрясник, в котором Давид был сегодня, ему, широкоплечему и худому, очень шел.
– Знаешь, Дада, ты на Руставели похож… У меня в Чердыни репродукция из «Огонька» есть, давно висит, лет сто. Тебе еще бы шапочку из мерлушки, как у него, и перышко за ухо… Я раньше не замечал, что ты похож… А Лизка-то как удивится! И огорчится ужасно. Ты правда в монастырь уходишь?
Давид только посмеивался в усы и бородку.
Но Соня смотрела на Пашу, на Давида, на Васю все печальней и печальней, И согреться она никак не могла, хотя пила уже третью чашку чая.
– Что с тобой? – тихо спросил ее Чанов.
Она посмотрела на него, придвинулась поближе, Кузьма обнял ее за плечи. И тут его осенило: она же заболевает! Он взял ее руки – холодные. Поцеловал в лоб – горячий. Заглянул в глаза – вроде бы даже косят слегка. И негромко сказал Блюхеру:
– Вася… Она заболела.
– Нет. Непрафда. – Соня попыталась вскочить, но Кузьма ее не пустил.
– Не рыпайся! – Блюхер, остановив на полуслове веселый треп, уже снимал с Сони ботиночки на шпильке. – Конечно! Мокрые насквозь! А чулочки-то, бог ты мой, в сеточку…
Он встал с колен и разглядывал ее, жалея. Даже руками всплеснул по-бабьи:
– И платьишко ажурное! Дыра на дыре… – Он помял в руках Сонину замшевую курточку с барашковой мягкой и кучерявой оторочкой и резюмировал: – Дубленка со «смехом», без меха и без подкладки… Чанов! Ты что, уморить ее хочешь?! На дворе зима! В магазин за одежей и в аптеку, немедленно!..
– Здесь за углом магазин спортивной одежды. И аптека рядом, – сказал Дада.
Обед завершили в десять минут, расплатились и отправились вон. Но разделились: оба Дадашидзе и Блюхер пошли в храм Божий, а Чанов, Соня и Асланян – в магазин спортивной одежды.
Это был правильный магазин, торговали в нем толковые барышни. За полчаса с чувством глубокого удовлетворения Чанов накупил всего всем. Соне – термобелье, свитер, закрывающий попу, брюки со штрипками, три пары вязаных носков, ботинки на толстой подошве с протектором, длинный шарф, шапку с ушами и перчатки, превращающиеся с помощью пуговки в варежки. Еще – спортивную сумку, в которую магазинные барышни аккуратно сложи «дубленку со смехом» и все остальное Илонино наследство. Соня в обновах выбирала в основном цвет, а также чтобы «не кололось», «не скрипело протифно» и не мешало при ходьбе.
Паше купили опять же ботинки, красные в белую полоску носки (Паша на них запал, потому что «как у Буратино»), синюю куртку, красный шарф и перчатки. Барышни с поэтом возились с особым интересом и участием, заглядывая в его круглые ярко-коричневые глаза и хихикая.
Чанов, подумав, купил и себе ушанку с искусственным лохматым мехом. Ботинки у него и так были в порядке.
Все как-то повеселели. Свою раскисшую обувку и старую ветровку Паша засунул в пакет и велел барышням выбросить. Велел по-немецки и с шиком, типа «пальто не надо».
И Соня – согрелась! Про аптеку они забыли и отправились в церковь, где достояли службу, которую вел отец Георгий, помогал ему Давид.
В Веве приехали не поздно. Малхаз на ужин приготовил хинкали, сам вынес блюдо и даже посидел за столом на веранде. Паша выпил шампанского за Новый год, наелся, после чего совсем затих. Стал носом клевать – он летел с пересадками и в самолете не спал. Блюхер разговаривал с Малхазом о тонкостях кабельного хозяйства подводных лодок и звал грузина на работу в CERN – «кабельного хозяйства у нас там – завались!..» Соня слушала, положив голову на стол, как, бывало, в Круке. Кузьма не слушал и смотрел на Соню… По номерам разошлись рано.
– Что это было там, в «Золотой рыбке»? – спросил Кузьма, лежа в темноте с теплой Соней под теплым одеялом. – Ты заболела или не заболела?
Соня не отвечала.
– Ты не забеременела?
Соня еще помолчала и сказала:
– Не знаю.
– Я бы хотел, – на всякий случай сказал Кузьма.
– Знаешь, что там было, у рыбки?.. – Соня вздохнула. – Мне показалось, что фсе мы расстанемся, скоро, фот-фот. Фсе уедут. Каждый будет сам по себе. И наша общая душа погибнет.
– Ни за что. – Кузьма словно сам вдруг замерз или испугался, что Соня замерзла, он встал, закрыл балконную дверь и вернулся к Соне. У него ныло под ложечкой, но голос его не выдал. – Душа бессмертна. Каждая. И общая – тоже.
– Ты прафда так думаешь?
– Правда.
Он мог и растолковать про эту правду. Он бы смог, начиная с Платона. Но не захотел. Соня и так ему верила. А сам-то он разве всегда чувствовал это бессмертие?.. Но сейчас на плече его лежала Сонина кудрявая голова, и общая их душа точно была бессмертна.
Снова настало утро. Соня всю ночь спала плохо, то было ей жарко, и она откатывалась на край постели, а Кузьма просыпался от страха, что она свалится на пол; то она замерзала и прижималась к нему, чтоб согреться, и тогда Кузьма обнимал ее и тут же засыпал. К утру он выспался совершенно, а Соня только-только на рассвете стала дышать глубоко и ровно, заснула как следует.
Он выскользнул из-под одеяла и вышел на балкон. Снегопад кончился, но солнца не было, и снег лежал уже не праздничный, обыкновенный. Стояло нормальное серенькое зимнее утро средней полосы России. Вот только горы за озерной гладью, да яхты, да знакомая пара лебедей у причала. Хурмы на деревьях осталось мало, за ночь попадала большая часть. «Надо бы собрать…» – подумал Кузьма.
– Ого-го-го!.. – раздалось с соседнего балкона. Поэт трубил, как олень на заре.
Кузьма закрыл балконную дверь и негромко сказал:
– Паша, не ори.
– Да как же можно не орать-то!.. – Он стоял на балконе в сатиновых трусах. – Слышишь, какое эхо!..
– То-то и оно. Восьми еще нет. Соня спит. Да и Вася тоже. Спускайся лучше, хурму соберем.
– Чего-чего?
Кузьма объяснять не стал, вернулся в номер, оделся, задумался на миг, прихватил фаянсовое блюдо из буфета, еще задумался и прихватил полотенце. Решил, как всегда, искупаться. Привык.
Соня спала, укрывшись с головой…
Хурма на снегу оказалась заледеневшей, стеклянной. Чанов собрал несколько и отправился к озеру, к заснеженному лежаку. На него и поставил блюдо с хурмой. И призадумался. Раздеваться? Становиться теплыми босыми ногами на снег?.. И все-таки он снял ботинки, попробовал. Ничего, вполне терпимо. Стащил штаны, свитер. И содрогнулся. На поверхности воды угадывались тонкие острые льдинки. «Нет, – решил он твердо, – сегодня не буду!» Но тут сзади раздались пыхтенье и радостные крики Павла:
– Я тоже! Я тоже!
Что делать? Кузьма вздохнул поглубже и с отчаяньем бросился в воду.
«Щас умру», – подумал Кусенька, плывя под водой, но вынырнул. Он услышал, как сзади ухнулся в воду поэт, оглянулся, увидел темную волнистую гладь, льдинки, видимо, водились пока еще только у берега, и поплыл саженками. Паша вынырнул, как Иван-дурак из кипящего котла, красный, с выпученными глазами. И снова ушел под воду. Долго не появлялся, но вынырнул вдруг настоящим Иваном Царевичем: брови черные, глаза сияют, рот румян, зубы белые. Плавал он лучше Кузьмы, догнал и перегнал. И уже далеко впереди кукарекал, квакал и кувыркался. Кузьма развернулся и спокойно поплыл к берегу. Когда он вышел к лежаку, увидел, что на балконе стоит Соня, завернутая в одеяло, и призывно машет рукой. Он запаниковал, наспех оделся и побежал, бросив полотенце.
– Фольф зфонил, – сказала Соня.
Кузьма немедленно успокоился, крикнул:
– Отлично! – и сразу юркнул в ванную, принять горячий душ. Вышел и обнял Соню. – Я был холодный, – сказал он. – А ты простужена.
– Уже нет, – ответила Соня, не давая целовать себя в губы. – Видишь, лихорадка высыпала. Значит, простуда прошла. Магда так говорит… Но целоваться больно.