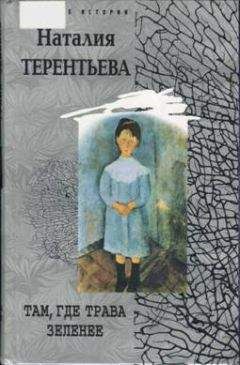– Квасу… – зарыдал что есть мочи отец. – Квасу… Да что мне теперь квасу-то пить, когда жить мне осталось всего ничего… А как я тебя оставлю, как?
– Почему, батя? Ты что… ты что… – мысли у Мити заметались, – какие-то анализы сдал, да? Скажи!
– Да какие там анализы! Без анализов я чувствую – конец мой близок! А я еще из тебя мужика не сделал! Ничего не объяснил! И ты мне врешь, ничего не говоришь, а я бы тебе объяснил, что надо делать, чтобы бабы тебя не ухватили за одно место, чтобы ты свободу свою не потерял! А ты там тыркаешься где-то, тыркаешься, вот, уже на себя не похож… Приехал сегодня, а я тебя и не узнал – мой это сына или нет… Лица на тебе нет, что ж с тобой сделала эта баба, а? Деваха эта… Где ты был с ней, сына, где? Что же ты молчишь, а?
– Не могу сказать, батя! Не могу… – Митя повесил голову.
Ведь целый час они бились до того, как отец взялся за ремень. И так и сяк уговаривал его отец, уламывал, а Митя не мог сказать, с кем и зачем он ездил. Отец сам догадался, что с Элей, но куда – не догадался. Почему-то Митя знал – не надо говорить отцу. Почему – сам понять не мог. Что-то подсказывало, какое-то непонятное чувство. Наверно, не надо предвосхищать тот триумф, который будет, когда Митя привезет домой фотографию отцовского шедевра. Или что-то другое его удерживало. Отец же сам рассказывал об этой скульптуре, так гордился ею, мог даже похвастаться перед незнакомыми людьми своей первой премией, но как только Митя заводил разговоры о том, чтобы съездить всем вместе, всей семьей, посмотреть ее, сфотографироваться там, отец отказывался.
И Митя решил для себя – отец, его гордый и скромный отец, просто не хочет возвращаться в то прошлое, где у него все было впереди, где у него был долгий звездный путь, вот как сейчас у Мити. Не хочет, ему больно. Пути звездного не получилось. И Митя перестал спрашивать об этой скульптуре. Отец сам ее описывал, из его слов Митя понимал – это что-то грандиозное, не имеющее четкой формы, что-то философское, эпическое… Как сам отец.
Ну, ничего, Митя найдет ее и привезет фотографию. Может быть, и договорится о презентации в музее. И вот еще… Эля по дороге рассказывала ему, что ее родители разрабатывают производство какого-то особого хлеба по древнему рецепту, «царский хлеб», хотят преподнести его самому Президенту, так, может, как раз и скульптуру отца показать Президенту? Ведь если Президент поймет, какой пропадает на Руси талант, поймет, что Филипп Бубенцов – это лучший скульптор во всей стране, он и даст ему заказ, самый главный, самый лучший заказ…
Филипп пнул Митю, мальчик завалился на бок, невольно застонал.
– Не ныть в моем доме! – обернулся к нему отец, допил квас и бросил на ходу: – В себя приди, переоденься, и чтобы через полчаса я слышал из твоей комнаты виолончель. У меня времени мало на этой земле осталось. Ты должен стать мировой звездой еще при моей жизни!
– Хорошо, батя, я постараюсь, – вздохнул Митя.
– Что ты сказал?
– Я верю и надеюсь, что так будет.
– Не слышу! – Филипп изо всей силы ударил себя по уху, раз, два, потом по другому… – Не слы-шу!!!
– Сделаю, батя, – четко ответил Митя.
– Вот! – Филипп потряс огромным указательным пальцем. – Вот как должен отвечать мужик. Не надо стараться! Надо делать! Глаза боятся – руки делают! В душе сомнение, а в руках – сила и мощь! – Филипп показал Мите два кулака. – Вот, как у меня! Мощь!!!
Эля в задумчивости перелистывала фотографии в телефоне. Митя смеется… Какая же у него изумительная улыбка, когда он искренен. Светлая, широкая, чудесные белые зубы… Да и не в зубах дело. Улыбка – это же не зубы, это что-то, идущее изнутри. Митя бывает похож на собаку – не в плохом смысле, в хорошем, он наивен, открыт, эмоционален, как веселый неугомонный щенок. Говорить особо не умеет, фразу толком закончить не может, но все понимает, смотрит на тебя добрыми, доверчивыми глазами, любит тебя… Любит? Ну да. Ведь он сказал это в Юрмале. Первый раз Эле показалось, что она ослышалась. Нет. Он повторил это. И потом говорил еще несколько раз той, последней, прекрасной ночью, когда они гуляли до утра, ночь была бесконечная, но когда кончилась, показалось, что они еще не все сказали друг другу, еще не нацеловались вдоволь.
Вот фотография – Митя смотрит на нее серьезно, вот задорно, вот он подпрыгнул невероятно высоко, прямо с места. И ей удалось снять этот момент, получилось как будто монтаж. Митя в профиль, Митя в фас, Митя грустный, веселый, задумчивый, играет на виолончели, пьет воду из бутылки, напевает…
Только вот почему-то уже третий день Митя ей не пишет ничего. Эля перечитала предпоследнюю переписку:
Как ты?
Хорошо.
Что делаешь?
Репетирую.
Он не спросил, что делает она, как она. Эля сама предложила пойти погулять, хотя бы в парк, Митя написал:
Извини, занят. Надо работать.
Она подумала, что наверняка у него какие-то проблемы из-за их поездки, хотя мальчик уверял ее, что все в полном порядке и отец совершенно не рассердился. Эле трудно было в это поверить, но никак не узнаешь. Если Митя не хочет чего-то говорить, его можно все-таки раскусить, если очень постараться, но сейчас никак не получилось. Переписываться иногда бывает трудно. Не видишь лица, не слышишь интонации. Поставил смайлик, значит, улыбается, значит, хочет смягчить сказанное. Поставил хохочущий смайлик – значит, всерьез можно не воспринимать слова. Но иногда разговор получается таким убогим, таким невнятным. Эля пыталась ему звонить, но Митя трубку не брал. Наверно, рядом ходил отец, и мальчику было неудобно с ней разговаривать.
– Элька! – в комнату заглянула мать. – Ужин на столе, Алина потрясающие шаньги сделала. Я уже две съела. Давай, бегом.
– Я не хочу есть, мам.
– Эля? – Лариса встревоженно подошла к девочке, потрогала лоб.
Эля успела щелкнуть телефоном, закрыть переписку.
– Эль, что с тобой?
– Все хорошо, мам. Днем поела, пока вас не было.
– Точно?
– Точно.
– Через неделю уезжать. Я билеты брать буду.
– Я никуда не еду, мам.
– Эля, ну что, ты будешь все лето сидеть на даче?
– Некоторые все лето сидят в городе, мам.
– Некоторые – это кто, дочка? – вздохнула Лариса и присела напротив дочери, попыталась взять ее руки в свои. Эля выдернула руки.
– Никто. Так. Люди.
В комнату заглянул теперь уже отец.
– Девчонки, вы что?
– Заходи, – махнула ему Лариса. – Вот, послушай свою дочь.
Эля взглянула на мать. Вот если бы она так не сказала, если бы она не позвала Федора, Эля, может, и рассказала бы ей… Она уже пыталась поделиться с Танькой, но та ответила: «Поматросил и бросил?» И поставила три хохочущих смайлика – не в том смысле, что можно всерьез не воспринимать ее слова, а в том смысле, что очень смешно, очень-очень. Обхохочешься.
Единственный человек, который слушает ее и говорит хоть что-то вразумительное, это их садовник, Сергей Тихонович. Но ему можно пожаловаться на Таньку или Софию, на родителей. А про Митю рассказать ему никак нельзя. Неловко. Слов не находится. Сказать – мы так целовались, что я думала, это навсегда, на всю жизнь, а теперь он не хочет со мной ни о чем разговаривать? Стыд и бред. Не скажешь, никому не скажешь.
– Элечка, дочка…
Федор сел рядом с ней, обнял ее, поманил еще и Ларису, та присела с другой стороны, отец обнял обеих.
– Ну что ты, наша маленькая, что случилось? Расскажи папке… Папка тебя любит, папка тебе шапочку, смотри, какую купил… Оп! – Федор достал из-за спины розовую кепку со стразами. – Она цвет меняет! Чем ярче солнце, тем она бледнее. Примерь, дочка!
Эля взяла кепку и вздохнула.
Как они не понимают – так не получится. Рассказать такое можно по секрету, только одному. Невозможно обсуждать свои муки на семейном совете, дружеском, шутливом… Мерить шапки…
– Все хорошо, пап, – ответила Элька, поцеловала отца в щеку, пахнущую всегда одинаково – морозными елками, свежо, бодро, и сняла его руку. – Кепка супер. Идите, ешьте. Я есть не хочу. Потом пойдем прогуляемся, посмотрим, можно ли уже купаться.
– Ой, пойдем, пойдем! – преувеличенно обрадовался Федор. – Сейчас мы с мамой заглотим по шанежке, да, Ларик? И салатику навернем. И – на речку? Да, Элечка?
– Да, папочка. Наверните – и на речку.
Эля отвернулась. У нее – самые лучшие родители в мире. Ее никогда не наказывали, ее почти не ругают. У нее все есть. Через неделю она едет, летит куда-то на тропические острова, вряд ли бы нашелся среди ее товарищей человек, кто бы отказался быть на ее месте. Она сама разве что.
Когда родители ушли, Эля быстро написала:
Я по тебе скучаю.
Она видела, что Митя Вконтакте, он прочитал ее сообщение, не сразу, но прочитал. И ничего не ответил. Ни «Да», ни «Я тоже», ни смайлик, ни хотя бы странное Митино «Угу», как сумрачный кивок, которого не видишь. Просто прочитал. Конечно, он мог бы оставить непрочитанным, это бы означало, что он вообще не хочет с ней иметь никакого дела. Это особый несложный язык. Вижу, что ты мне пишешь, вижу даже начало твоего послания, но мне это не нужно, я его не открываю. Митя открыл. И ничего – ничегошеньки не ответил.