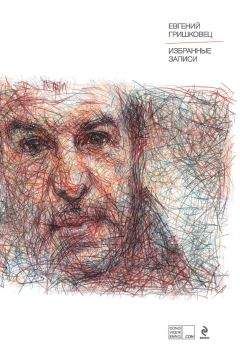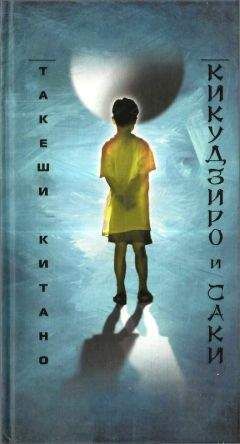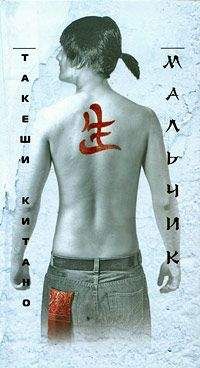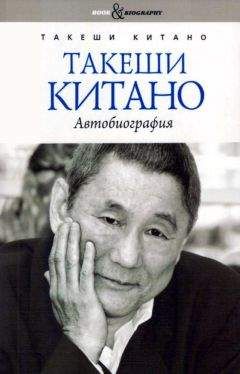В долгих разговорах, которые уходили далеко за полночь, сильнее всего почувствовалось то, что все говорили об ушедшем и, по мнению моих собеседников, безвозвратно утраченном городе, о том Кишинёве, который они страшно любят и который скорее вспоминают, чем живут в нём сейчас. Мои новые знакомые вспоминали разъехавшихся по миру друзей, с грустью рассказывали городские истории и мифы, от которых остались только тени, потому что нет участников этих мифов и историй, да и город изменился до неузнаваемости.
Многие из тех, с кем удалось пообщаться, поездили по миру, пожили в разных странах и имеют румынские паспорта, но всё же вернулись обратно и, судя по всему, без особых иллюзий и ложного патриотизма намерены жить в Кишинёве. Сколько же в них подлинной и проверенной любви к родному городу! Далеко не везде можно такое встретить. В российской провинции этого очень мало. Такую любовь я встречал в Одессе, Севастополе, Тбилиси, а в наших уральских, сибирских, дальневосточных городах чаще можно встретиться с желанием уехать как можно скорее и как можно дальше. Я сам это пережил и отлично знаю, о чём говорю.
Кишинёв, видимо, утратил прежнюю лёгкость, прежние блеск и очарование. Найдёт ли он себя в трудные времена? Сможет ли занять какое-то своеобразное и неповторимое место в изменившихся условиях? На этот счёт и у пожилых, и даже у молодых жителей молдавской столицы больше пессимизма, чем оптимизма.
Но как же вкусно можно в Кишинёве поесть! Сугубо национальных молдавских блюд немного. Главное, конечно, мамалыга и куриный суп, который мало чем отличается от привычного нам куриного супа с лапшой, только в молдавской кухне в него добавляют кислый квас. Есть что-то похожее на люля-кебаб, только молдавские колбаски делаются не на шампуре, а на гриле, и они коротенькие. Всё остальное имеет прямые аналоги в украинской, или кавказской, или каких-то других кухнях. Просто в Кишинёве всё это очень вкусно готовят!
Вино мы пили исключительно молдавское, и теперь могу сказать, что моё пренебрежительное отношение к молдавскому вину закончилось раз и навсегда. То, что у нас продаётся под названием «молдавские вина», не имеет никакого отношения к тому, что пьют в Молдове. Там, очевидно, научились здорово бутилировать вина и добились превосходных результатов в изготовлении самих вин. Они довольно простые, недорогие, но настоящие!
Я очень хочу приехать в Кишинёв осенью, спланировать приезд так, чтобы был хотя бы один, а лучше два свободных дня, чтобы увидеть город, и выехать из него, и закрепить едва осознанные ощущения, и пережить новые. Хочу найти отчётливое место в своей собственной душевной географии для тронувшего меня неведомого, увиденного буквально одним глазком города.
Когда улетал из Кишинёва, местные прогнозы обещали потепление и более соответствующую этому южному городу погоду.
В Калининграде падает совершенно рождественский снег, которого и без того так много, что если бы вид за окном был открыткой или рождественской картинкой, можно было бы сказать, что художник со снегом переборщил.
Нынче ночью сыграем в самом старом клубе и одной из первых дискотек СССР, в легендарной «Вагонке» (ДК Вагоностроительного завода) традиционный, завершающий год концерт. Когда-то в этих стенах я познакомился с Максимом Сергеевым и группой «Бигуди» в первом её составе. Было какое-то весёлое мероприятие, играла первоклассная музыка, за пультами стояли два молодых, забавно одетых парня в очках, а рядом флегматично играл на гитаре очень похожий на скандинава гитарист. Мне сказали, что это группа «Бигуди», и мы познакомились.
Если бы я знал тогда, что это знакомство полностью изменит жизнь Максима Сергеева, разрушит небольшую, но весёлую компанию «Бигуди» в том её составе… Если бы я знал, что второй, полностью калининградский состав группы, участвовавший в записи нашего второго альбома, попробует гастрольной жизни с переездами и неустроенностью, жизни, когда то есть концерты, а то их подолгу нет, а главное – сделает тяжкий выбор между такой профессиональной, кочевой, без внятных перспектив деятельностью и калининградской оседлой и упорядоченной жизнью… Если бы я знал тогда, что только Максим Сергеев решится расстаться с прежней работой в университете, периодическими диджействованиями и редкими концертами в тихом и уютном Калининграде и ступит на страшно нервное, рискованное и временами нищенское и голодное поле профессиональной музыкальной деятельности… Если бы я знал, что и первому, и второму составу, и нынешнему третьему во главе с Максимом будет суждено все эти годы ощущать обидное невнимание к их музыке, пренебрежительное отношение к тому, что они делали и делают, музыкальных критиков, что им будет суждено, в основном несправедливо, оставаться в тени моих текстов, которые никогда бы не появились без музыки Максима Сергеева и «Бигуди»… Если бы я знал, сколько переживаний, разрывов отношений, сколько, казалось бы, маленьких, но для отдельного человека глобальных трагедий и даже сломанных крыльев повлечёт за собой наше знакомство с ребятами, ничего не знающими о том мире, в котором я к тому моменту уже пожил и немало испытал… Если бы я это знал заранее, возможно, я не подошёл бы и не познакомился. А если бы этого не случилось, на две-три семьи было бы больше, и на несколько рождённых детей – тоже.
И в то же время я держу в руках наш новый альбом «Радио для одного» – выдающийся результат нашей совместной работы. Какие-то наши совместные песни разошлись на цитаты, какая-то музыка Максима Сергеева с наших альбомов крутится в качестве заставок на региональных теле– и радиоканалах, какая-то звучит в кино. Мы сыграли множество концертов… Трудно теперь сказать, надо было тогда знакомиться или нет. Я не знаю, и, наверное, никто не знает…
Самые грустные и даже отчаянно-тоскливые ощущения Нового года, а точнее, любимого мной посленовогоднего затишья 1 и 2 января у меня связаны с двухтысячным годом. Первого января двухтысячного года, довольно рано, мне пришлось улететь из Калининграда в Питер, а оттуда поездом отправиться на целый месяц в Хельсинки для совместной российско-финско-немецко-шведской постановки. Таких совместных проектов тогда, да и, наверное, сейчас делается предостаточно. Практического и художественного смысла в них мало, но какие-то деньги от каких-то фондов и бюджетов участники могут получить. Тогда деньги были мне жизненно необходимы: я страшно мыкался, иногда ездил со своей «Собакой» на фестивали, где в лучшем случае получал за участие грамоты.
Прибыл я тогда в Хельсинки утром 2 января. Шёл сильный дождь. Снега на удивление не было. Тяжёлое финское небо лежало на крышах, а во дворах и вдоль дорог валялись уже выброшенные ёлки. Тоска была нестерпимая, поселили нас в ужасных условиях. А ещё хотелось как можно больше сэкономить на суточных, которые нам давали. До сих пор удивляюсь, как мне тогда удалось прожить месяц в совсем не дешёвом по европейским меркам Хельсинки всего за двести шестьдесят долларов и около тысячи сэкономить. С каким трудом я расставался с финскими марками (евро тогда ещё хождения не имели)… И как же мне хотелось домой!
Перед отъездом я поменял сэкономленные финские марки на доллары, оставил только купюру в пятьдесят марок: хотелось не тащиться автобусом на вокзал, а ехать на такси, чтобы дорога из опостылевшего Хельсинки была радостной. Я уточнил, сколько стоит такси до вокзала, мне сказали: 20 марок или около того, то есть мне должно было хватить ещё купить себе чего-нибудь вкусненького в поезд.
Тёмным зимним утром в назначенное время подъехало такси. По почти пустым улицам мы доехали быстро, за дорогу перебросились с таксистом несколькими фразами. Он оказался словоохотливым, но я плохо понимал его финский вариант английского. У вокзала я спросил, сколько с меня, он махнул рукой в сторону счётчика, и я увидел на светящемся узком дисплее 103 с лишним финских марки. Я моментально покрылся холодым потом, мне стало жалко денег, столь тяжело заработанных, стало обидно за несправедливость, и ещё я ругал себя, мол, не ездил никогда на такси, так нечего и начинать. Вслух же я возмутился, говорил, что это непомерно дорого, что у меня нет столько денег… Финский таксист растерянно хлопал глазами, не понимая моего возмущения, а я завёлся. Наконец он пожал плечами, сказал, что это обычная цена, и снова указал на счётчик. И тут я понял, что он-то мне показывает на счётчик, а я-то смотрю на радио, чуть выше счётчика. На счётчике было 21.60 FM, а на радио – 103.7 FM. Такого курьёзного совпадения теперь нигде уже не может случиться…
Уезжал я из Хельсинки счастливый, посмеивался над собой, да и ехал тогда в Москву – получать первую в своей жизни серьёзную профессиональную премию «Антибукер 1999» за лучшую пьесу на русском языке. Ими были признаны пьесы «Записки русского путешественника» и «Зима». И премия была значительная: целых 12 тысяч долларов, с вычетом налогов – девять с половиной на руки. После нищенской жизни в Хельсинки я чувствовал себя на вершине мира и богачом. Следом, в конце марта, будут «Золотые маски», первые триумфальные выступления в Европе, первые гастроли. В том самом 2000 году произошёл мой переход из одной жизни в другую. Моему появлению на профессиональной сцене были рады критики, коллеги, зрители. Со мной случился, что называется, оглушительный успех. При этом самое начало года было безнадёжно тоскливым, неприкаянным и почти голодным…