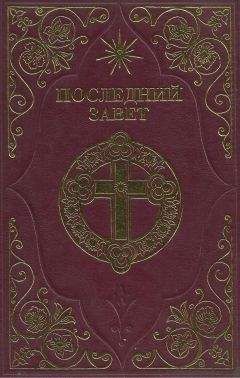– Ну, Тео, мы все жаждем зрелища, – сказал Роб, расправившись со своим любимым завтраком: омлетом, горкой жареного бекона, овсянкой с фруктами и корицей и тоже блинчиками – только с черничным джемом; потянулся. – Где наш сад? Немыслимо просто, что он полгода бегал с землей под ногтями, но никто пока так и не видел, где он его прячет? Или он его передвигает каждую ночь? Как арабские джинны…
Тео посмотрел на ван Хельсинга – тот в кои-то веки завтракал с ними – что он скажет – есть ли час официального празднества – тот развел руками; ван Хельсинг ел очень простой завтрак – апельсиновый сок, белый хлеб с маслом, вареное яйцо, йогурт, яблоко – как девчонка какая-то; не то, что отец Дерек – у того был мясной рулет, жареные помидоры, фаршированный перец, сыр, паштет из гусиной печенки, ванильное мороженое с горячей карамелью; Дилан поглощал хлопья с молоком и малиновым джемом, безбожно хлюпая; Женя наслаждался яйцами пашот с белым соусом с зеленью и кучей сосисок, и шоколадным кексом; у Изерли любимой едой оказался горячий сэндвич с салями и шарлотка; у Грина – «бургер Элвиса» и кусок шоколадного торта «Захер» – «ужасно вредная еда, так что я ее не ем почти, только на гастролях, когда энергии сгорает немеренно, но когда Изерли спросил, я не устоял»; Дэмьен любил омлет с помидорами и тоже ветчину, и тоже блинчики, с кленовым сиропом; Зак ел – «что-то некошерное» съязвил Роб – и все вздохнули с облегчением – так и общаться начнут – и даже подружатся – почти полный английский завтрак – «меня так Соня, наша домработница кормила, она раньше в огромном поместье в Йоркшире служила»: яичницу, фасоль в томатном соусе, кровяную колбасу, бекон, помидоры, грибы; Артур, как ван Хельсинг и Дилан, ел что-то обычное – видимо, он постеснялся, или просто не знал другого – хлопья с медом, бананы, яблоки, персиковый сок, немного сыра и бекона; «а что любит Ричи?» не удержался, помогая готовить для всех, Тео – «а ничего, он сказал, что дам, тому он и будет рад, он вообще в еде ничего не смыслит… я тут пытался его научить готовить омлет хотя бы…» – Изерли засмеялся – и Тео подумал: это дружба на века, та самая, из «Касабланки»… Ричи задумчиво рассматривал еду на тарелке, «это твое любимое?», Изерли толкнул его в затылок, Ричи хмыкнул и начал есть – это была какая-то божественная мясная запеканка с сыром и грибами в сливочном соусе, и миндальный торт с клубникой.
– Ну… наверное, можно и сейчас. Утренний сад в росе и всё такое… но там полно и вечерних сюрпризов – есть розы, которые источают аромат только ночью, а еще там… иллюминация…
Все засвистели, захлопали; помогли Изерли все убрать, построились на тропинке возле скамейки Изерли – от нее шла ровная дорожка, из розовых и белых камешков, Тео натаскал их с пляжа, по краям горшки с анютиными глазками, фиалками, душистыми травами. Тео повел их – и они шли в тишине, будто он вел их не по заброшенному парку Рози Кин, а по дремучему лесу, в самое сердце, где башня колдуньи, и сейчас им предстоит запомнить дорогу, а потом сражаться за свою любовь, за свою душу.
– Ну?
– Это так красиво, Тео, с ума сойти можно, – первым сказал Йорик – сад кружился вокруг них, словно винтовая лестница, поднимался выше, как маяк, и на каждом уровне разыгрывался свой маленький спектакль, своя «Буря», свой «Влюбленный Шекспир». – Тебе наверняка помогали эльфы… гномы… все феи-крестные мира…
– Не, только мама советами, Изерли тряпками-тяпками-перчатками, и Грин – уже украшать. Он всё равно же его видел – ну, как он всё видит… Вечером можно устроить здесь пикник – над всем садом натянута сетка с новогодними гирляндами – пара сотен разноцветных лампочек – мы с Грином проверяли, все рабочие, – это фантастически, лучшее будущее рождественское шоу.
– А это и есть тот самый сорт «Святой Каролюс»? – спросил ван Хельсинг, наклоняясь понюхать. – Я о нем много слышал, но не видел никогда, хотя у меня много знакомых увлекается розами, имеют розарии…
– Он не так давно появился, только в прошлом году, мне прислала мама, – никто, даже мама, не узнают, что присланный мамой росток умер еще в дороге, и сейчас вымахал ван Хельсингу почти по пояс куст, который однажды ночью под дверь поставил совсем крошечным в чайной кружке с водой Визано.
– Он так сильно пахнет… будто духами… – ван Хельсинг разговаривал медленно, будто был не здесь совсем, будто у него болела сильно голова; Тео помнил его таким, будто гроза скапливалась где-то в море, может, пройдет мимо…
– У него по правде свой такой сильный аромат… это большая редкость…
Ван Хельсинг улыбнулся – и Тео отпустило.
– Это роскошный сад, Тео, я поздравляю тебя… Как там у твоего любимого Рильке: «И все они наполнены собою, ибо наполненность собою значит: весь внешний мир, и дождь, и грусть, и ветер, весны раздумье, бегство и тревогу, и зов судьбы, и мрак земли вечерней, взлет облаков и их преображенье, и дальних звезд туманное дыханье – всё горсточкой в себе сосредоточить. И вот оно лежит в раскрытых розах»…
– О, спасибо, сэр! А еще мне пришла в голову мысль в духе серебряного века – пусть у каждого брата будет жить в келье в горшке своя роза… Сейчас все могут выбрать себе по розе, я отсажу в горшочки; её можно будет потом забрать с собой из Братства… как память…
– Тео, у меня даже кактусы гибнут.
– Это потому что тебе всё равно, ты не думаешь, что они живые… а роза – она будет стоять у тебя и благоухать, и никогда не даст тебе забыть о себе…
– Ну, вместо Дамы сердца… как у Маленького принца…
Все разбрелись по саду, наслаждаясь; и выбирая; Тео почему-то предполагал, что все захотят «Святого Каролюса» – но выбирали что-то простое: белую, красную; Тео всё записал, только ван Хельсинг не выбрал; «о, Тео, ты что… отец Дерек любит цветы… а я… мне что дети, что цветы, что животные – мне по статусу нельзя, у меня нет дома»; ушел к себе; Тео так расстроился, что не подарил ван Хельсингу ничего; и вдруг вспомнил о своем рисунке – портрете Каролюса; с которого всё началось; он побежал в келью, снял его со стены – он даже забыл о нем – его быстро закрыли другие рисунки, вырезки, заметки, которые залезали друг на друга, будто мальчишки на ледяной горке; снял – рисунок всё так же был хорош, спустя год; тонкие точные линии, цвет; Тео постоял минуту, потом решительно направился к кабинету ван Хельсинга, постучал.
– Да?
– Можно, сэр?
– А, это ты, Тео… что-то срочное?
– Нет, сэр, но я быстро…
– Ну, входи.
Тео вошел. Вот он, Каролюс, всегда юный, как Джеймс Дин. В воздухе висел дым – ван Хельсинг скурил уже полпачки; окно было закрыто; будто он предавался отчаянию.
– Сэр… ммм… однажды мне приснился святой Каролюс, он обернулся, и глаза его были как звезды… история моя тогда уже началась… но я горжусь, что видел его хотя бы во сне… я, знаете, рисую всё время, и нарисовал его, чтобы не забыть… он был самым красивым, что я видел в жизни… я знаю, есть рассветы и закаты, и Моне и Вермеер, и розы, и море… но он самое красивое, что я видел… и вот, сэр… можно я Вам подарю? Просто он маленький – рисунок – у Вас наверняка есть фотография, но портрет – это так по-настоящему, так старомодно, как рок-баллады… про тотальное затмение в сердце… Вы как-то сказали, что больше всего на свете Вы любите смотреть на его портрет…
Тео положил рисунок на огромный стол. Ван Хельсинг подвинул рисунок к себе, улыбнулся.
– Да, потрясающий набросок. Ты точно не хочешь его оставить у себя?
– Нет, сэр… нет, если не хотите…
Ван Хельсинг засмеялся, накрыл рисунок ладонью.
– Хочу, хочу, спасибо, Тео.
– А Вы придете к нам вечером в сад на пикник?
– Святое дело. Сто лет не видел такого шикарного сада. Такого продуманного: будто бы заброшенного и ухоженного притом ювелирно… ты точно не хочешь этим на жизнь зарабатывать?
– Я подумаю, сэр.
– Тео, блин, я пошутил. Ты в цепких когтях католической церкви…
– О, слава Богу, а то я уже решил, что Вы серьезно…
– Проваливай.
Тео выскочил из кабинета; «блин, как же они похожи с Макфадьеном; чувствуешь себя комичным персонажем из Диккенса, Каттлем или Панксом какими-нибудь»; и побежал обратно в сад – это был его праздник, открытие выставки, премьера фильма… Ван Хельсинг же медленно убрал руку с рисунка – портрет, который висел напротив, был очень хорош, но в рисунке Тео было то самое – мгновение – когда люди видели Каролюса, они умолкали, восхищенные, не красотой его даже, а вот этим светом звезд, который он нес в себе; в это мгновение люди переставали быть плохими – не то, чтобы они менялись, просто они вдруг видели Бога, которого, думали, нет… потом они, наверное, забывали про красивого молодого священника со звездами в глазах, розами на губах… но ван Хельсинг не верил в это – как можно забыть такое?
– Я так скучаю, Дюран, – сказал он. – Я так скучаю…
Сжал руку, всю в мелках от рисунка, в кулак и заплакал.