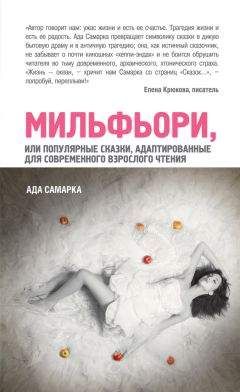Жена удивленно посмотрела на него снизу вверх заплаканными глазами.
– Вас с младшими хлопцами и с кем-то из старших девчонок на поезде, а я с народом на автобусе. На вокзале встретимся. Вас в домике на базе поселим, а мы по-спартански, как туристы, в палатках. Валь, ну ты чего?
– А Женя? Ей только четыре года, как она с вами на автобусе? Это ж сутки ехать!
– Женя уже здоровая кобыла, по слогам читает, за ней девчонки присмотрят!
Мать семейства ничего не ответила. Оставалось только смириться.
Шел июнь две тысячи восьмого года. Доллар упал до рекордной отметки в четыре гривны, было жарко, но не очень, и ничто не предвещало беды.
Но одиннадцатого ребенка все равно никто не хотел.
«Блин, как было бы хорошо…» – думала похудевшая, уставшая мать семейства, лежа на отмели Арабатской стрелки, зябко вытягивая высохшие, кривовато-острые, в выступивших венах ноги, свои больные ноги, которые столько лет не обволакивала прозрачно-бирюзовая морская вода.
«Впереди было бы только лучше, а так еще один год коту под хвост», – думал коренастый, темноволосый, с ранней проседью глава семейства, внося в банковский автомат кредитные деньги за автобус. Они оба, не сговариваясь, не делясь, каждый в себе, с досадой думали, что с этой прекрасной долгожданной морской поездкой пропускают все сроки, за которые можно было бы малотравматичным медицинским путем устранить проблему. Витали смутные, опасливые мысли, что «есть же еще и социальные показания на поздних сроках», но, погружая младшего сына в прохладное, нежно хлюпающее море, глядя на нежный белый пух на его мелкой, похожей на кокос головушке, на его ручки и ножки в складочках, с толстенькими растопыренными пальчиками, с кукольными ямочками в тех местах, где у взрослых людей на кистях рук выпирают костяшки, спохватывались и понимали: нет, жизненный дар бесценен, раз так случилось – значит, так надо.
«Но жить когда?.. Господи, пожить бы!» – одинаково думали они, когда все дети, устав от солнца и купания, проваливались в глубокий ранний сон и ночь только-только подкрадывалась к веранде летнего домика, выстраивала тонкую сумеречную дугу, замазывая детали, листики и былинки, превращая все выпуклые формы сначала в матовые сероватые рельефы, а затем, под далекое размеренное дискотечное буханье, в тонкие бумажные вырезки, однослойные, приклеенные к тлеющему теплом желтовато-кремовому небу.
А спустя три месяца грянул всемирный экономический кризис, доллар вместо четырех гривен стал стоить девять с половиной, и ту зарплату, которую, в гривнах, получал глава семейства, работая водителем со своим автомобилем, сильно урезали. Схема со сдачей автобуса в ночную аренду для развозки сотрудников какого-то пригородного завода тоже накрылась – половину сотрудников того завода отправили в неоплачиваемый отпуск, ночные смены отменили. В связи с общей сумятицей Лесниченко забыли совсем про коммунальные платежи за обе квартиры, и пришла грозная квитанция с какой-то совершенно неподъемной суммой. Одновременно с этим про банковский кредит и про автобус узнали в собесе, пришли с комиссией и сняли с них статус малоимущих, лишив весьма существенных льгот. Кредитный платеж за сентябрь также не был погашен, и начались звонки в шесть утра и в час ночи, когда записанный механический голос сообщал о задолженности. Старшие дети, которые собирались идти на курсы, сидели теперь дома, растерянные и притихшие. Нужно было срочно покупать около восьми пар обуви, кеды для школы и осеннюю одежду, а у коляски младшего сына, как назло, отвалилось колесо. Старшие девочки пытались наняться репетиторами – заниматься с двоечниками – в соседние дома, но народ считал каждую копейку, скорее из-за всеобщей паники, чем из-за реальной угрозы собственному благополучию. А в одном месте за очень щедрые деньги вместе с унылым, как амеба, первоклассником приходилось иметь дело и с его дедом – прытким сухощавым чудовищем, торжественно разводящим полы потрепанного темно-бордового халата, под которым в коридорном полумраке покрученной корягой демонстрировались его обветшалые чресла. Словом, репетиторство пришлось оставить, и дух отрешенного отчаяния сумерками опускался на семью.
Когда домой к Лесниченкам пришли в начале сентября страшные, хамоватые, с налитыми кровью глазами коллекторы и пнули ногой лежащего на полу в прихожей голого пупсика, Валентине стало плохо, сильно заболела поясница.
Коллекторы сказали, что пока бояться нечего: квартиры-то две и на улице они не останутся. А пока что одну из квартир можно даже не продать, а просто сдавать.
Иного выхода не было, и этим же вечером – под истерики старших – стали переносить вещи.
– Меня не интересуют ваши проблемы! Это мой угол, и я отсюда никуда не уйду! – кричала шестнадцатилетняя Настя. Некрасивая, стриженная под мальчика, с кривым носом в черных точках, бедная Настя работала по ночам и отдавала родителям все, до самой последней копейки, а проснувшись к обеду, садилась на кухне, грызла морковку и читала учебник. Все, что Насте было нужно, – это свой угол, возможность поспать в тишине, и салат из свежей морковки. Ее никто никогда не обнимал, никто с ней никогда не садился поговорить, никто не знал, что она любит, о чем думает, чем увлекается; все только радовались, что Настя такая самостоятельная и ответственная получилась, морковку вон любит, да и то подленько так радовались, с эгоистичной ленцой, любили же за то, что не слышно и не видно ее.
Все, кроме Насти, ушли, и до полуночи не утихали тяжелые неторопливые звуки грустной суеты из второй квартиры: тяжело, как больная животина, елозила мебель, что-то куда-то нехотя и сонно распихивали, переставляли. Несколько раз обиженно, со злостью, плакал младенец, хрюкал, захлебывался. А глава семейства, испытывая оправданный стресс, уединился на балконе, там было хорошо, прохладно, легкий ветерок трепал по щекам, обдавая терпким древесным запахом цветущей бузины. Он вытянул ноги, закинул руки за голову и смотрел на открытое со всех сторон небо, висящее прямо над ним, начинающееся сразу над балконной дверью, улетающее в такие доступные, такие приветливые вечность и бесконечность. Рядом стояла початая чекушка и белела пачка сигарет, и тут же, на расстоянии вытянутой руки, молчаливой компанией нависали звезды, души наших предков – Орион, Большая Медведица и другие, чьих названий он не помнил.
У Валентины весь день после ухода коллекторов тянуло спину и прихватывало низ живота. И это была желанная боль: прикладываясь к трехстворчатому фанерному шкафу, толкая пианино, она в некоторой степени провоцировала эту боль, играла с ней, ведя определенный диалог с судьбой, вызывала эту судьбу на разговор по душам. «Видишь, как мне тяжело, видишь, что мне приходится делать», – думала Валентина, отдуваясь, приподнимая за край дико тяжелые кровати, щедро, не щадя себя, от души наваливаясь на допотопные лакированные трюмо и комод. За приоткрытой балконной дверью краснел огонек сигареты ее мужа.
«Сидит. Прохлаждается…» – почти вслух подумала Валентина, превозмогая боль, поглубже вздыхая и хищно облизываясь, переводя дыхание, занимая удобную позицию для толкания шкафа.
– Давай еще чуть-чуть, Витек, – улыбаясь, с азартом, сказала сыну. – Еще чуть его подвинем, гада этого тяжелого.
От усталости немного кружилась голова, и эта муторная, невнятная склизкая болотистая беременная тошнота, несмотря на срок, все еще периодически давала знать о себе – поднималась, выкатывалась вязкими пузырями. В такие моменты одновременно сосало под ложечкой, а ноги становились полыми, кончики пальцев растворялись в воздухе, голова делалась легкой, дурной и беспомощной, реальность распадалась на мелкие черные точечки, которые сгущались в роящуюся рамку по периметру расфокусированной картины зрения.
– Фух, – выдохнула Валентина, тяжело прислоняясь к оголившимся старым розовым обоям в том месте, куда вместо одного шкафа теперь станут целых два. Она запрокинула голову, пытаясь смыть таким образом черные мошки, вылить звон из ушей, тыльной стороной запястья вытерла глаза. – Фух! Господи, как я устала.
И тут ей стало однозначно легче. Так приходит второе дыхание. Так чувствуешь себя, когда жарким пыльным днем, устав с дороги, берешь литровую кружку холодной воды, и второй или даже третий глоток, торопливо прокатившись по небу и горлу, расплывается в потемках тела, впитывается, и пьющий, все еще продолжающий пить, чуть замедляет темп и открывает глаза, ощущая в себе первые признаки насыщения и готовность снова продолжить путь.
Но вода в этот раз выливалась из Валентины – совершенно неподвластная никаким внутренним мышцам, неконтролируемая, ощутимая одним лишь своим пугающим непривычным теплом струйка сбегала с двух сторон, по каждой ноге, под халатом, постыдно утяжелив трусы, и прозрачной, крошечной лужицей ложась на пол. Всего-то несколько столовых ложек прозрачной воды. Но ее не должно было там быть.