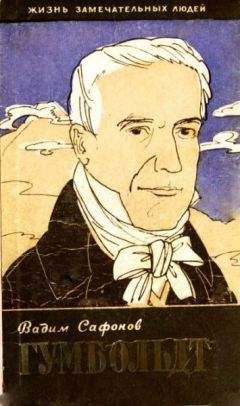– А так бывает?
– А как же! Еще как бывает.
– Красиво сказано, – сказал Петер и повторил: – Бесформенная куча неизвестно чего.
– Тебе нравится?
– Да, – сказал он. – В смысле не «куча», а как сказано. Сама придумала? Прямо сейчас?
– Нет, – призналась я. – Прочитала. У одного философа. Фамилия Эльхман.
– А как книжка называется? – спросил он.
– Не помню, – сказала я. – Кажется «Символ и реальность» или «Реальность символа», а может «Символизм реальности» – не помню точно. Маленькая такая, в оранжевой обложке.
– На немецком? – спросил Петер. – Или по-нашему?
– Не помню, представь себе, – сказала я. – Честно, не помню. Где эта книжка сейчас и откуда я ее взяла – ничего не помню. Наверное, у папы. У папы очень много книг. Ну, в смысле у нас. Наша библиотека в имении. Дедушкины книги, папины…
– Какая ты начитанная, – сказал Петер.
– Не я одна, – я отошла на пару шагов от кровати и стала ходить по комнате.
От двери к окну и обратно.
Петер следил за мной. У него смешно блестели глаза в полумраке. Мы, когда вошли, не стали зажигать электричество, а сразу начали целоваться в темноте. Потом повалились на кровать, и Петер стал пытаться меня раздеть, но вот тут-то я и объявила ему, что «не сегодня». Тогда мы зажгли свечку и продолжали целоваться уже спокойнее, так сказать, по затихающей линии, по затухающей.
Маленькая свечка горела на прикроватном столике. Я ходила по комнате, любуясь собственной тенью, как она движется по противоположной стене.
– Не только я, – говорила я, – не только я такая начитанная. Все мы очень много читаем. Часто совсем ненужные книжки, безо всякой системы. Не так, как ученые или студенты, которые специально составляют списки или получают их у своих учителей. Нет, это тоже полезно – я не спорю. Но я не про науку.
– А про что ты? – спросил Петер, потому что я на самом деле немножко сбилась и замолчала.
– Просто про книги. Разные. В большом количестве. На разных языках. Умные, изящные, красивые, классические. Расин и Корнель, Шиллер и Гете, Стендаль и Шатобриан, граф Толстой и Достоевский, а также Кант, Гегель, Платон и Аристотель. Не забыть древних авторов – Овидия, Вергилия и Горация. Гомера и Софокла.
– Любой интеллигентный человек, особенно с университетским образованием, читал все эти книги. Я знаю, к чему ты клонишь.
– Ну и к чему же я клоню? – разозлилась я.
– Что вы – хранители мудрости. Что вы поколениями читали разные мудрые книжки и теперь превратились в эдакую живую библиотеку, мозг нации. Я это слышал много раз, – повторил Петер. – У нас в университете есть такие студенты. Очень гордятся дедушкиными библиотеками, а учатся плохо. Мозг нации – не аристократия, а интеллигенция, дорогая Адальберта. Уже лет сто с лишним, а может, даже двести или триста.
– Ты ничего не понимаешь, – сказала я. – Дело не в книжках. Я, наверное, плохо объясняю. Мы – это не только книжки конечно же. Книжки – чепуха. Вернее, так – все в отдельности чепуха. Мы – это родословная, изящество, воспитание, музыка, картины – мы понимаем, что на них изображено, и можем объяснить, что означает каждая фигура – книги, книги, я уже говорила, привычка чистить зубы и держать ногти в порядке, умываться и причесываться… а также честь, верность слову, правильная вера в бога, а если неверие, то тоже разумное, а не так – шалтай-болтай. Разум – вот! Логика. Правильные выводы из основательных посылок. Умение смело рассуждать, спорить вежливо, но настойчиво, не оскорбляя собеседника, но и не подлаживаясь к нему. Да, да, умение признать свою неправоту, если собеседник окажется более логичным и убедительным. Умение правильно обедать, завтракать и ужинать. Подбирать блюда. Обращаться со столовыми приборами, знать, в какой бокал какое вино наливают. Чувство стиля. Необязательно быть специалистом по архитектуре, но именно чувство, необъяснимое чувство, которое заставляет строить красивые дома, красиво и изящно обставлять комнаты. Во всем – от пропорций до мелких деталей: от свода потолка до статуэтки за стеклом в шкафу. Стиль! Про чистые ногти я, кажется, уже говорила. Ну и еще опера, конечно.
Я замолчала и подошла к окну.
Отодвинула занавеску и посмотрела наружу. Тьма была непроглядная, потому что окна моей квартирки, как я уже говорила, смотрели в кустистый склон холма. Если сильно приглядеться, можно было увидеть дальний отблеск фонаря, который едва-едва касался верхушек деревьев чуть повыше. Неба не было видно совсем. Холм переходил в небо, поэтому непонятно было, где здесь трава и кусты идущего вверх холма, а где – черно-серые облака. Странное дело – я совсем не помнила, видно ли из моих окон небо. Понятно. Днем я была здесь только один раз, и мне как-то не до того было. Не до вида из окна. Я молчала и смотрела в окно. Мне вдруг показалось, что из кустов на меня кто-то смотрит. Но только показалось, потому что даже если б кто-то сидел в кустах, шагах в десяти от окна, и глядел бы сквозь темноту на мое окно, я бы все равно его не увидела.
Я обернулась, услышав какое-то движение. Петер сел на кровати, потом встал, заправил в брюки выбившуюся рубашку, поднял с пола сюртук (оказывается, он его сбросил на пол, вот это да!), накинул на плечи и сел.
Откашлялся, а потом сказал:
– По-моему, это у тебя получилась бесформенная куча неизвестно чего. Какая-то окрошка. Знаешь такой крестьянский суп, аристократка?
– Знаю, – сказала я. – Моя любимая кухарка Грета летом делает мне окрошку. Сказать рецепт?
– Не надо, – усмехнулся он. – Вот у тебя настоящая окрошка. Чистые ногти и Гораций, столовые приборы и Шиллер с Достоевским. Логика, честь, черт знает что. Ты хоть сама понимаешь, что ты говоришь?
– Это ты ничего не понял, – сказала я. – Но я, как аристократка, вежлива и уступчива. Я готова согласиться, что я опять не сумела внятно объяснить. Все, о чем я говорила – это и есть, это и есть то, без чего невозможна жизнь народа.
– Прости меня, – сказал Петер. – Ты отвратительно патетична. Ты говоришь, как будто читаешь вслух передовую статью из венской правительственной газеты. Что с тобой? Ты ведь такая молодая, такая смелая, такая… – он снова засмеялся, – я бы даже сказал, лихая. И вдруг что-то про культуру и народ.
– Я не сказала слово «культура», – обиделась я. – Я вообще не понимаю, что это такое. Я просто хочу тебе сказать, что вот это все, что я тебе говорила, – от Гомера до носового платка, от чистых подмышек до Аристотеля, включая вкус в обстановке квартиры – это и есть то, без чего все остальное валится и рушится. Остается отрыжка, злоба, вранье, подлость и сладострастная жестокость. Тупость, нелогичность, безумная жизнь. Не в смысле «сумасшедшая», как доктора бы сказали, а именно «без-умная», без ума, без разума, без доказательств, тупое и животное следование желаниям. Жрать хочется – жру. Руками, из общей миски, чавкая и роняя капли. Женщину хочется – хватаю ее ручищами и насилую. Власти хочется – убиваю полицейского. Но потом от этого «без-умия» начнется настоящее безумие. Уже в докторском смысле. Но когда весь народ сойдет с ума, будет поздно, потому что докторов не останется. Так и будет народ убивать, грабить, жрать и совокупляться. Так сказать, наперегонки. Что скорее – друг друга съедят или новые дети народятся? Но это без разницы, потому что новые дети такие же и будут друг друга жрать. А все из-за чего? Из-за того, что выгнали и поубивали аристократов, этих нежных бездельников, которые бродили в своих изящных одеждах по своим стильным комнатам и читали никому не нужные книги про любовь и честь в восемнадцатом веке.
Петер запахнул покрепче сюртук, не надевая его, впрочем, в рукава. Уже в комнате было прохладно, а печь никто не топил, хотя было заплачено. Запахнув сюртук и ухватив себя за локти, он поплотнее уселся в углу постели и опустил голову.
– Страшно? – спросила я.
– Пока еще нет, – сказал он. – Аристократов еще никто не выгнал и не убил. По-моему, ты забегаешь вперед. И вообще, ты ломишься в открытую дверь.
– То есть? – не поняла я.
– Я совсем не аристократ, – сказал он. – Ну, разве что совсем маленький. Из мелкопоместных. У моих родителей, дедов и прадедов с обеих сторон, с отцовской и материнской, были маленькие владения в горной части страны. Так что у меня тоже есть родословная. Но не в этом дело. Я-то как раз хочу, чтобы никто никого не прогонял, чтобы никто никого не убивал, чтобы все было потихоньку, шаг за шагом. Как, знаешь ли, когда в деревню приезжает хороший учитель и хороший поп. Через несколько лет появляются грамотные мальчишки. Потом второе поколение, третье. И глядишь, лет через сто или двести деревня станет совсем другой. У нас так бывало. И сейчас бывает. И я надеюсь, будет все больше и больше людей образованных и порядочных. Для этого совершенно не обязательно убивать кайзера и устраивать революцию.
– Договорились, – сказала я. – Хотя я, честно говоря, не знаю никого, кто рассуждал бы вот так вот, как ты. Никого, кроме тебя. Из народа, я имею в виду. Ах да, ты же тоже не из народа, у вас были маленькие имения в горах… Народ хочет, чтоб всё было быстро. И ты знаешь, его можно понять. Меня понять труднее, потому что у меня уже все есть. У меня есть большой дом с большими удобными комнатами. Я уж не говорю о слугах, деньгах и еде. Большой дом, удобная кровать, ванная, уборная и даже газовая плита. Здесь, в городе, газовая плита. А там повара готовят на печи, на дровяной плите то есть. Но неважно. И вот я подхожу к человеку, у которого ничего этого нету, к деревенской девушке, да к той же самой Грете Мюллер – моей любимой поварихе. Она с детства живет рядом. Она заходит в мой дом. Она готовит мне обед. Она видит, какая у меня фарфоровая посуда, наглаженные салфетки из тонкого льна, серебряные вилки, бокалы и графины из граненого хрусталя. Она видит все это. А зимой, признаюсь тебе по секрету, когда мы с папой уезжаем в Штефанбург на оперный сезон, она тайком и без спросу ночует в нашем доме, ложится в мою кровать, чтобы хоть несколько раз, хоть несколько дней в году ощутить прохладу наглаженных простынок, мягкость подушки и упругость матраса. Что она чувствует? Рабскую любовь ко мне? Дудки! Восторг перед моей утонченностью, образованностью, хорошим вкусом и знанием языков? Никогда! Она чувствует зависть. L'esprit de ressentiment. Даже если она не мечтает выкинуть меня из моего дома и поселиться в нем сама, она все равно завидует. Ведь зависть бывает разная. Бывает злобная, яростная. Бывает тоскливая и горькая. А может быть печальная и нежная, даже отчасти романтичная. Но все равно это зависть. Чувство несправедливости. Она думает: «Я тоже родилась от любви мужчины и женщины. Я тоже человек, который венец творения. Я красивая, стройная, с золотисто-рыжими волосами. Отчего же эта каракатица, – я для понятности похлопала себя по груди, – владеет всем, а я сплю на топчане, в одной комнате со старухой-теткой, от которой воняет кислятиной?» И вот, представь себе, дорогой Петер, что я сажаю эту Грету рядышком, обнимаю за плечико, заглядываю в глазки и говорю: «Не печалься, не горюй, моя милая. К вам в деревню приехал хороший учитель. У вас в церкви новый умный батюшка. Молодой. Семинарию с отличием закончил. И матушка у него, попадья в смысле, с фельдшерским образованием. А я деньги дала управляющему, чтобы он новый колодец вырыл и замостил площадь перед лавкой. Не горюй, Грета. Через двести, а повезет, так через сто лет, дома в вашей деревне будут каменные, все дороги будут мощеные, в школе будет пять учителей и вместо матушки-фельдшерицы будет целый фельдшерский пункт, а может, даже и больница с двумя докторами. Ты, главное, терпи, родная». Что, заснул? – спросила я Петера.