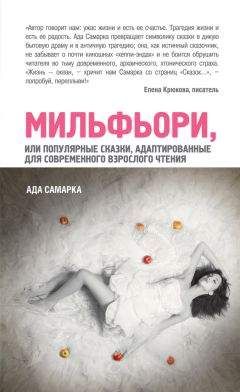На вторую неделю появилось онемение и тяжесть в переносице. Еще постоянно тошнило и созревало внутри ощущение неискоренимого панического страха. Таблетки и сиропы помогали слабо. Транквилизаторы я пить не могла из-за работы, автомобиля, ребенка и прочей ответственности. Я ходила, вцепившись в телефон, перезагружала его зачем-то. Проверяла, есть ли связь. Носила его с собой в уборную. Клала рядом с собой на подушку или засыпала, держа в руках. Все, кто звонили мне тогда, наверное, удивлялись, как я умудряюсь всегда отвечать еще до того, как прозвучал сигнал вызова.
В конце концов я записалась на женский фитнес.
Это был странный ход, но нужно было что-то делать. Я стремительно скатывалась куда-то, больница сжирала меня, засасывала в воронку, норовила убрать из моей жизни все остальное, что находится за пределами ее стен – времена суток, общение с друзьями и ребенком. Чувство голода, например, исчезло напрочь. Ела раз в день, и какую-то гадость, подножный корм, стараясь отвлекаться в процессе жевания на все подряд и глотать как можно быстрее, чтобы закрыть эту тему. Нужно было что-то делать, пробить плотину сложившейся депрессии. Как советовали подруги, серьезно беспокоящиеся за меня (подперев телефонную трубку плечом и меланхолично переворачивая оладушки для мужей), – жить дальше. Я не видела в жизни вне больницы никакого смысла. После того, как я записалась на фитнес, свекровь посчитала меня преступницей и предательницей. А я изучала какого-то постороннего человека в зеркале в ванной: тело, которое имело ко мне и силе моей мысли определенное отношение, и это тело явно нуждалось во внимании и здоровом тормошении.
До шейпинга я добралась лишь спустя несколько месяцев, и он ворвался в мою жизнь на неделю. Три занятия – вот насколько меня хватило.
Группа состояла из примерно десяти женщин, и все они, как под копирку, являли собой определенный типаж, причастность к которому грозила неизбежно и мне самой – обернись все так, как могло бы обернуться в реанимации там…
Они были, как принято говорить, «моложавыми» и безнадежно одинокими. Все без исключения со стрижками на различную вариацию прически «паж» и все темных цветов – от баклажанового до густо-рыжего. Они все были очень активными, заинтересованно, нездорово активными и я, еще не вынырнувшая до конца из своего, чуждого им семейного болота с одним постоянным партнером (пусть недоступным мне в прямом половом и прочем пользовании – но своим, собственным), ощутила себя чужаком в этой задорно топающей и пыхтящей женской стае. Они горячо поддерживали друг друга и показывали кипучую жизнерадостность – кто-то ехал «одна в Париж», и я думала, что – о боже… – что может быть печальнее… Кто-то делился какими-то интимными подробностями, конфиденциально приложив ладонь к губам, но так, что вся раздевалка слышала, и как школьницы потом стреляли глазами, обмениваясь с тренировочных ковриков многозначительными взглядами. Кто-то кому-то наконец-то позвонил… Они, сорокалетние, подтянутые и ухоженные, ходили на этот шейпинг и на какие-то другие «классы и тренинги», пользовались косметикой «Мери Кей», знакомились по Интернету и были все сплошной кипучей энергией, уверенностью в себе, жаждой секса и своего мужчины, и олицетворяли собой то самое ужасное безнадежное бабское одиночество, от которого я, будь мужиком, неслась бы сломя голову. Оно изливалось из них в их воспаленной жизнерадостности, нездоровой бойкости и подростковых рюкзачках, они прыгали на нем, глядя на себя в зеркало в спортзале, разбрасывая в стороны руки и ноги и будто пытаясь улететь. И я к ним, даже не салага еще, а, как называет меня муж, – «салаженок», пришла инстинктивно, по тому же тревожному бабьему чувству, потребности двигаться куда-то. Двигаться, чтобы жить – и все мы плясали и порывисто выдыхали «хых!» на глубоких приседаниях, с одной целью – чтобы развинтить моховики ржавой махины собственных судеб.
Не успевая за их темпом, я, тяжело хватая ртом воздух, размышляла о том, что привело их к этому одиночеству – измена мужа? Вдовство? Какая-то нелепая такая жизнь, когда вокруг крутилось множество вариантов, но трудно было выбрать кого-то одного, и потом вдруг – бац! – и тридцать пять, и несколько абортов в прошлом, и самая большая любовь – безнадежно женатая, и вокруг уже ни души… и нужно же жить, и нужно двигаться, чтобы жить. И вот мы все скачем, пыхтя и отдуваясь – чтобы жить. Все без этого номера телефона – первого в контактах, по которому можно звонить в любое время суток и с любыми глупостями, не боясь, что нарушишь что-то или там смутишь – как звонили бы самим себе.
* * *
Как это всегда бывает при перемене внутреннего курса – неизбежно меняется что-то и во внешнем окружении, и в какой-то момент я обнаружила, что мои старые подруги (те, с которыми я раньше обсуждала болезни детей и посадку пряных трав в горшки на кухне) невольно отошли на второй план. В то же время, с новыми обстоятельствами, на арену выкатились какие-то новые личности, которые, даже где-то и вопреки моей воле, занимали в моей жизни больше места, чем хотелось бы.
Совершенно не пойму как, ко мне прибило нелепую и одинокую (вот что нас сблизило) молодую некрасивую женщину нетрадиционной ориентации – Йолу. Она просила, чтобы ее так называли, говорила каждый раз: «Привет, это Йола». Кажется, ее зовут Еленой на самом деле. Кажется, она тоже пережила определенный кризис в личной жизни, живет одна и периодически посещает какие-то рок-концерты, о которых коротко сообщает за перекурами («Была вчера на концерте». – «О-о-о, ага», – отвечаю я). Совершенно не пойму, о чем мы вообще говорим с ней. Но встречаться на перекурах стало нашей традицией, от безысходности, не от истинного интереса – два утренних перекура, обеденный перерыв с сидением (как она говорит, вот это я точно помню, «в тупой шаматхе») на лавочке в нашем бизнес-центре за стеклянной стеной на первом этаже в вестибюле. За стеной толпятся ожидающие пропусков гости; через турникет с хромированными лопастями проходят хорошо причесанные и с хорошим цветом лиц, в туфлях и пальто, сотрудники наших офисов, с белыми аккуратными бейджами с магнитными полосками (у нас тоже такие болтаются), а те, кто остается за стеклянной стеной – гости с улицы, – смотрят на них (да и на нас тоже) с некоторой завистливой тоской и несогласием.
Мы с Йолой садимся на лавке под фонтаном с искусственным папоротником и просто глазеем перед собой. Она, как прибившийся на время пес (ужасное сравнение, но это именно так и есть!). сопровождает меня к метро, хотя, как недавно выяснилось, ей ближе добираться на маршрутке. Когда я беру машину, то подвожу ее не до дома, а как она убедительно просит – до магазина-«стекляшки», и говорит своим подростковым мальчишеским баском: «Пойду пройдусь». Даже когда в начале октября полили дожди и ветер валит с ног – она все равно говорит: «Да пойду пройдусь», даже если легко одета.
Про нетрадиционную ориентацию я узнала во время нашего третьего или четвертого перекура – тогда она вдруг стала рассказывать про рок-концерт и как какая-то, пусть ее будут звать Ветка, ушла навсегда, и как это все грустно и ужасно, но как она, Йола, это все отпускает. «Я не держу, подумаешь… раз человеку надо…» – говорила она. «А у меня муж в больнице с черепно-мозговой…» – вежливо ответила я.
Потом тему личного мы уже не затрагивали, просто здоровались и курили, а потом садились в «тупую шаматху» на лавочку в вестибюле.
* * *
В каждой истории есть что-то, о чем хотелось бы умолчать. В моем случае это общение с милицией.
Одна знакомая, автор дамских романов, призналась, что много лет работала следователем по делам несовершеннолетних, и я недоумевала, отчего же в ее произведениях, откровенно бабских, не читается и намека на ту увлекательнейшую, с обывательской точки зрения, работу, полную всяческих любопытных грязностей, способных так приперчить и разнообразить текст. А она ответила, что это все настолько ужасно, что нет ему места ни в жизни, ни в творчестве. И тут случилось примерно то же самое – воспоминания о моих походах в милицию, пожалуй, это единственное, что я бы хотела напрочь стереть из памяти.
Но я не могу совсем ничего не написать про Светлану.
Мы ведь регулярно общаемся с этой женщиной с обочины. «С которой все началось», – хотелось бы мне написать, и это бы окрасило облик Светланы в мрачные тона, что совсем неправильно, потому что переплетение наших судеб носит какой-то обывательский, обыденный оттенок дурацкого совпадения, ничего личного, как говорят. Но, конечно, я ее почти ненавижу, и читатель, конечно, догадался бы об этом и без моих признаний.
Не знаю точно, что она испытывает ко мне, но сухое чувство логики, без всяких предвзятостей, говорит о том, что если бы ее мужчина не покалечил бы моего мужа – то ее бы точно убил. В этом у меня почему-то нет сомнений. Иногда я позволяю мысли развинчиваться вместе с дымом от сигареты и вижу какие-то мелодраматичные картины, полные сериального пафоса. Например, Светлане нужно было выжить, чтобы потом ее ребенок сделался некоей крайне важной фигурой и спас мир. Или моему мужу нужно было через это пройти, чтобы выполнить некую запутанную миссию, с которой он, собственно, и рожден был 33 года назад (библейский возраст), и нес в себе эту миссию, сам того не осознавая. И само ее имя, как бы льющее свет, кажется мне весьма символичным.