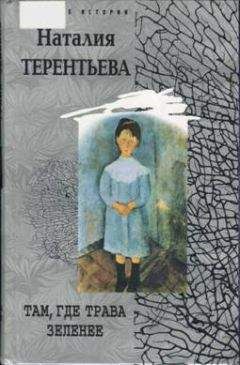Эля высморкалась и постаралась взять себя в руки – машина резко затормозила, потому что Эля, думая о своем, дождалась зеленого света для машин и ровно вместе с машинами стала переходить дорогу. Почему? Кто ж знает… Училась водить в выходные… Ездила рано утром по поселку с Павлом… Как-то так сейчас вышло, показалось, что она за рулем… Показалось? Или специально пошла? Да нет, с чего бы это…
Она ведь видела в начале сентября, что он с Тосей, вернее, Тося семенит рядом с ним, вешаясь на руку, на плечо, обнимая его, хихикая… – ей все равно, даже не оглянулась. Она видела, что он пришел с огромным синяком на лице, все спросили, все, последняя собака, а она – нет, не подошла, ничего не спросила, не написала, в конце концов. Она прекратила писать в августе. Он ждал, он запрещал себе ждать и ждал, как последний дурак.
И когда она никак не прореагировала в сентябре, вообще с ним перестала здороваться, когда вышла эта убогая драка с Деряевым – да ради бога, он и не собирался драться за Тоську, он решил: ну раз так, ему все равно. Кто его позовет, с теми он и будет. И он опять стал ходить в школе с Деряевым, стоять рядом. Постоит – пойдет дальше. Может поговорить с Тосей, может пройти мимо. Тося – это… Не получается ответить себе, что это. Ничего. Урок жизни. Просто он теперь знает и умеет то, чего не знал и не умел раньше. Он попрощался с детством этим летом. И переступил ту самую грань. Не с Элей, нет. С Элей вообще все было не так и не про то. С Тосей. Но она сама ничего для него не значит, все равно он – один. Один по жизни.
Эля светилась, Эля ходила по школе со свитой, все так же, как было в мае, в апреле – идет Эля, рядом девчонки, сзади тащится Костик и еще один парень, его друг, и где-то поблизости крутится Дуда. Теперь только прибавился еще один девятиклассник, высокий, волейболист, блондин с темными глазами, яркий, наглый… Митя много раз видел, как он ненароком проходил мимо Эли, что-то спрашивал, что-то показывал в тетрадке, шутил… Она вежливо и равнодушно улыбалась. Как обычно. Всем, одинаково. Он пытался найти в ее лице следы переживаний – ничего подобного. Как будто ничего и не было.
Он много раз давал себе слово – да не будет он вообще на нее смотреть! Ходит себе и ходит. Если ей все равно, ему тоже – в сто раз больше все равно. У него – Путь, у него карьера, у него работа, ежедневная тяжелая работа, четыре-пять часов сложнейших этюдов, гамм, он готовится к поступлению. Было лето, да, было, чего там только этим летом не случилось! Было, и перестало быть. Настала осень. И все летние заботы испарились, развеялись. Все, кроме одной – у него впереди экзамены и поступление.
Зачем ему еще вот это? Зачем ему эти нервы? Сколько энергии туда уйдет… А зачем этот парень приехал из Норвегии? Неужели вот прямо из-за Эльки? Какое он имеет право приезжать к Эле? Она… Митя вставал в логический тупик. Она – что? Она любит его, Митю, это же ясно! Летом любила… Никуда ничего деваться не могло! Просто… просто она обиделась. Вот сегодня он обнял ее, сам того не ожидая, подошел только так, мимо шел, увидел красивую машину, народ стоит, он и подошел – он же свободный человек… Обнял ее, а она вся затрепетала, он почувствовал это. И сам он тоже заволновался. Хотя теперь он взрослый. Он уже знает цену всем своим волнениям, и оттого что Эля взяла его за руку, он не задрожит.
– Митяй! – Отец кинул в него сухарем. – Ты что? Заснул за столом? Сидишь с открытым ртом, как дебил…
– Нет, прости, батя, задумался… А… – Митя посмотрел себе в тарелку. – Больше ничего нет?
– Нет, Митяй, нет! Вот сейчас твой батя пойдет на работу, вот и купит тебе мяса, а пока – ничего нет, вермишель пустая. Ешь, что дали.
Митя, не веря своим ушам, посмотрел на отца, осторожно переспросил:
– На работу?
– Да, сына, да. В подёнщики! – У отца дрогнул голос. – Столько лет верность хранил принципам, талант не растрачивал, но вот видишь… Сынка одевать нужно, кормить…
– Да нет, батя, подожди, у меня же все есть…
– За курсы платить! – повысил голос отец. – Ты вообще узнавал, сколько стоят твои подготовительные курсы, на которые ты собрался поступать?
– Подготовительное отделение, Филипп, – осторожно поправила его Марьяна.
– Вот именно! Выше бери! Так знаешь, сколько учеба там стоит?
– Нет…
– А, то-то же! А ты узнай! Не потянет мать. Вот пойду сам работать, чтобы тебе учебу оплачивать…
– Да подожди, я… Я могу… Я хотел…
Филипп махнул рукой.
– Все уже! Договорился. И если ты узнаешь, куда и кем…
Марьяна, наливающая чай, только вздохнула.
– Ну я не знаю, Филипп, давай лучше я полы пойду мыть после работы, чем ты вот так…
– Нет уж, мать, я – мужик. Я пойду работать, раз надо. Я ради своего сына принципами поступлюсь, что уж мне осталось на этой земле, только сына выучить, да и помирать можно…
Митя с Марьяной хором запротестовали. Филипп только отмахнулся от них.
– Бать, так куда ты… устроился?
– В батраки к родителям твоей Эли!
– Не моей… – пробормотал Митя. – В смысле – в батраки? Это кем? Ты будешь у них… кем? Не прислугой же? Пекарем?
Филипп захохотал и стукнул Митю по лбу.
– Еще чего! Не-а, сына, я буду фантики им рисовать. В которые они булки заворачивают. Целлофановые фантики будет рисовать твой батя! – Филипп неожиданно хлюпнул носом. – Вот так, сына! Вот так я тебя люблю! Дожили…
– Нет, батя, зачем… Я пойду курьером… Или грузчиком… Я…
– Ты – учись, сына! У тебя – звездный путь! Вот сейчас пойдем поступать на подготовительное отделение в консерваторию, будешь ездить, будешь учиться у лучших профессоров…
– В училище сначала, наверное, придется идти, Филипп, я узнала, – негромко поправила его жена.
– Но при консерватории?
– При консерватории. В субботу прослушивание на подготовительное.
– Вот, сыночка мой, готовься сиди, чтобы там все ахнули. Может… – Филипп лукаво посмотрел на сына, – может, и сразу в консерваторию предложат. Это пусть бездари в колледжах да училищах учатся, а нам сразу высшее образование подавай, да, сына?
Митя неуверенно качнул головой. Он будет стараться. Отец ради него будет поденщиком, его гениальный отец будет рисовать какую-то ерунду, чтобы оплатить его курсы… Ну ладно. Это ненадолго. Митя поступит на бюджет, Митя сам будет зарабатывать, Митя получит грант, Эля еще пожалеет, что променяла его на этого никчемного норвежца! Да он ниже Мити на полголовы! На четверть… Да он вообще… Он же не музыкант, он – ничто и никто! Продюсер – это что, профессия? Она еще поймет… Она даже не представляет, что теряет, какой он мужчина…
Он-то теперь про себя все знает, он видит, как смотрит на него Тося… Деряев восстановился в своих правах, накостылял Мите – и лишь потому, что Митя не собирался с ним драться, не из-за чего! Он так и сказал Деряеву – забирай, мне больше неинтересно, а тот полез драться, оскорбился! И за то, что Митя попользовался Тосей, и за то, что сам, легко, с брезгливостью отказался. А Тося пишет, пишет, глупости, гадости, фотографии немыслимые посылает, от которых тело дрожит, а в душе тошно, он два ее последних письма вовсе не открыл – зачем себя лишний раз раздражать. Было – было. Сходил в тренажерный зал, подкачался, вроде того. Про себя узнал, про женщин. Вряд ли все такие, как Тося. Он и не хотел бы, чтобы Эля была способна на многое из того, что умеет и знает Тося. И ему не все нужно было. А теперь-то уж, когда он увидел снова Элю…
– Митяй! Я тебе говорю, что ты уплываешь куда-то? Не выспался? Я спрашиваю – готов к поступлению? Обучение на подготовительном хоть и платное, да вон мать беспокоится…
– Правда, сынок, мне сказали – прослушивание серьезное, виолончелистов не более трех возьмут…
– У меня все произведения готовы, не переживайте. Все хорошо, мам, бать! – Митя улыбнулся. У него самые лучшие родители. Он их обманывает, все время обманывает. Но невозможно им все рассказать. Их разорвет. Как-то так вышло, с какого-то момента стало невозможным делиться с родителями. Кто в этом виноват – Митя или они, уже и не разберешь.
Он пробовал рассказать о Тосе другу Сенечке, который окончил первый курс колледжа. Но Сенечка – плохой советчик, у него женщин еще не было, и девочек не было. Он может только глупо смеяться и давать советы на уровне «Ну ты, это, ей скажи… блин, ну ч ты как лох…». И дальше смеяться. Митя поделился, душу отлил да и остался один на один со своими проблемами. Но ничего, сейчас он начнет учиться в училище при консерватории, пусть на подготовительном, но у лучших педагогов во всей стране, и он подойдет к Эле и скажет, так, небрежно, как будто походя: «Ехал вчера из Консы» или «Мне препод в Консе руку ставит…» И она ахнет, посмотрит на него так же, как смотрела в Юрмале. Зачем ему это надо? Зачем… Потому что без нее, без этого ее взгляда – тошно и пусто. Не объяснить никому, даже себе. Почему от одного ее взгляда хочется жить, смеяться, бежать, не чувствуя под собой ног, а когда этого взгляда нет, не хочется ни есть, ни смеяться, не жить.