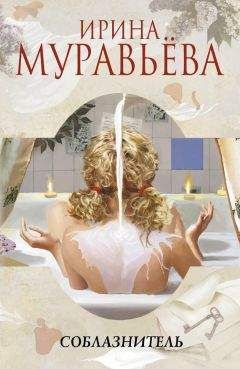– При чем же здесь Вера?
– Она ни при чем! Я только к тому тебя хотел подвести, – Иван Ипполитович мягко закашлял, – что нужно сначала проверить ей мозг. Сделать эхоэнцефалограмму. Не больно, не трудно. Но по крайней мере можно будет исключить самое неприятное, то есть, Лара, органические изменения ткани, которые, я уверен, к сожалению, присутствуют в тканях твоего… – запнулся и вздрогнул, – отца ее, Верочки.
Белая, как скатерть на ресторанном столике, любимая женщина, ради которой Иван Ипполитович готов был песок целовать при условии, что там отпечаток, на этом песке, ноги ее или хотя бы, краснее, чем кровь, каблучка, любимая женщина грустно молчала.
– Ларочка, – профессор зажмурился, – если бы ты тогда…
– Что «если бы», Ваня?
– Да нет, ничего. Нужно просто обследовать. Все сделаю сам. Безболезненно, быстро. Тогда и решим.
– Хорошо, – она, не сдержавшись, заплакала. – Ваня…
На том разговор их закончился. Официант с косым пробором, удивленно получивший на чай втрое больше положенного, убрал совершенно нетронутое блюдо с телятиной свежей под фирменным соусом, а также и блюдо с опятами.
«Ишь ты! – подумал он бегло. – С морды голодные!»
На следующее утро Лариса Генриховна с дочерью Верой, глаза которой были уже не серебристыми, а черными от злобы и в груди, на том месте, где положено быть чистому и деликатному девичьему сердцу, пылал жаркий уголь все по той же причине, пришли на обследование. Иван Ипполитович, перед которым все расступались, пока он дошел от своего кабинета до приемной, полной пациентов с выкатившимися от изменений в мозговой ткани глазами, с тиками, от которых тела непроизвольно содрогались, с вывернутыми шеями и другими серьезными признаками поразившего их заболевания, поморщился с явной досадой, увидев, что Лара и дочь ее Вера находятся в этой печальной приемной.
– Да как же! Просил ведь: ведите ко мне! Давно вы тут ждете?
– Нет, только пришли.
Лариса смотрела испуганно, а Вера, напротив, с презрительным гневом. Иван Ипполитович хотел было погладить ребенка по голове, но вся голова была в мелких кудрях, покрытых каким-то составом и жестких, а взгляд, полоснувший его по лицу, отнюдь не был детским, приветливым взглядом.
В комнате белокурая медсестра, похожая на голубицу и носом, слегка розоватым, и голосом клекотным, тотчас усадила ее на кушетку и сам Иван Ипполитович, осторожно высвобождая участки кожи между налакированными и мелко завитыми волосами, опутал всю голову Веры железками, которые он проложил снизу ватой, как делают это под елкой с подарками. Он возился над нею и сопел от напряжения и страха сделать ей больно, а она смотрела на его белый халат, на пуговицы, на ниточку, повисшую с воротника, и думала: «Что, если взять и вскочить? Погонится он за ней следом? Конечно. Ведь он же, бедняга, влюблен в ее маму». Она ненавидела всех: и его, и с розовым носом его медсестру, и маму, и бабушку Лину Борисовну. Но больше всего было злобы и ярости в том месте, где прежде сгущалась любовь. Там был Бородин. Ах, не надо про дочку! Болеют и дочки, и внучки болеют! Ведь не умерла же она? Нет, жива. Тогда почему он не смотрит в глаза? За что он ее избегает? И разве она виновата, что дочка болеет?
Ну, пусть избегает, – она поняла бы. Но если бы он хоть бледнел или таял! Была бы надежда, что он что-то чувствует. Но он равнодушен был, хуже моллюска. Он стал незначительной серою частью всего безразличного серого мира и слился с ним так же, как мелкий моллюск сливается с серой морскою водою. А кто же стоял тогда на остановке? Смотрел голубыми своими глазами? Чей рот был тогда пересохшим, бескровным?
И кто ей сказал: «Я женюсь на тебе. У нас будут дети». Не он, да? А кто?
Иван Ипполитович, профессор медицины, между тем закончил свой труд и оглядел горбатую, рогатую и колючую Верину голову с таким наслаждением, словно бы это была не головка красавицы школьницы, а зверя, которого кто-то поймал и он теперь жизнь отдает за науку.
– И сколько же мне так ходить, дядя Ваня? – спросила она хладнокровно и кротко.
– До пятницы, – быстро сказал он. – До пятницы.
– Всего-то? – она улыбнулась. – Всего-то?
Усадив их в такси и заметив, что шофер с опаской посмотрел на бледное женственное и злое существо с забинтованной башней на месте головного убора, Иван Ипполитович сунул ему четыре бумажки, и шофер, глаза у которого сразу же стали спокойно-безразличными, умчал его радость, любовь целой жизни, с ребенком, которого он изуродовал. Хотя не надолго, всего лишь до пятницы.
Поддерживая Веру за локоть, Лариса Генриховна вышла из лифта, и тут же они столкнулись с молодым строителем.
Молодого рабочего звали Исламом, родом он был из Турции, и Вера, московская девушка в кофточке белой, давно приглянулась ему, еще осенью. Сейчас, увидев, насколько сильно она изменилась, молодой Ислам не вскрикнул от удивления, и не крякнул, и не ойкнул, как это сделал бы любой интернациональный рабочий на его месте, а, почтительно прижавшись спиной к только что выкрашенной стенке, пропустил их к двери и взглянул прямо в ее опущенные глаза с таким выражением, которое давало понять, что произошедшая в Верином облике перемена не будет влиять на растущее чувство. Вечером он положил на коврик перед квартирой небольшой букет в целлофановой обертке и на открытке, приложенной к нему, написал яркими буквами: «Спасибо!» Согласитесь, что далеко не всякому молодому человеку, хотя и не богатому, но приятной черноволосой наружности иностранцу, выросшему в одной из горных деревушек Анатолии, пришло бы вдруг в голову благодарить чужую семью неизвестно за что. А этот поблагодарил.
Итак: положил он букет и ушел. Через два часа Лина Борисовна высунулась из квартиры, чтобы забрать почту, и тут же наступила жилистой ногой своей на звонко щелкнувший целлофан. Брезгливо высвободив ногу и нервно понюхав цветочки, Лина Борисовна задумалась. Она, конечно, сразу же поняла, что зять Переслени, опять оскорбив чем-то Лару, пытается к ней подлизаться как может, поэтому и преподносит букетец. В таком случае нельзя, чтобы жалкое это подношение увидела дочь. В то же время нельзя было и выбросить цветочки в мусорный бак, поскольку он должен был Ларе сказать, что был, и принес, и страдал, и так далее. Тогда Лара сразу поймет, что к чему, начнет бурно плакать, кричать, чертыхаться, и, главное, вспыхнет опять эта просьба оставить ее вместе с мужем в покое. Воровато оглянувшись, Лина Борисовна, не притрагиваясь к растениям ни одним пальцем, все тою же жилистой крепкой ногой передвинула цветы так, что они оказались лежащими между двумя ковриками: их, чистеньким и аккуратным, и грязным, совсем уж негодным ковром педиаторши. Лежит и лежит: чей букетик, не знаем. Педиаторша, мать Ивана Ипполитовича, отличаясь большим самомнением, должна будет сразу подумать, что это – подарок и знак благодарности ей за чье-то спасенное детство. А чье и когда – совершенно неважно: «Спасала, спасаю и буду спасать. За этим и клятву дала Гиппократу».
Прошло полчаса, и открылась дверь лифта.
Иван Ипполитович раньше обычного покинул свой кабинет, где пахло всегда свежим кофе и елью, поскольку его секретарша старалась, чтобы кабинет был уютным, домашним: варила ему свежий кофе, пекла какие-то темные сладкие коржики, а ель для того, чтобы пахло как дома, всегда приносила и ставила в банку. Не целую ель, разумеется, ветку. Сама была тоже совсем недурна, мечтала бы стать ему не секретаршей, и жизни своей не жалела, пытаясь достичь этой цели, вполне всем понятной.
Иван Ипполитович отменил совещание и поехал к матери на «Спортивную», извиняя свой сумасбродный поступок тем, что давно не навещал родительницу. На самом же деле – для Лары, конечно. Душа его ныла.
На землю спустились холодные сумерки, такие зловещие и беспокойные, как это бывает в конце декабря, когда колкий снег, вдруг посыпавший ночью, слегка забелил купола и растаял, но тот, кто заметил его белизну, был сам тоже странно печален и бледен. Иван Ипполитович ехал, по своему обыкновению, очень осторожно, но думал о чем-то таком, что могло бы – не будь он таким осторожным водителем – закончиться очень тяжелой аварией. Он думал о скудности всякой науки, поскольку вчера, вон, открыли одно, а завтра, глядишь, и другое откроют, и это другое, какое откроют, поставит немедленно то, что открыли вчера или позавчера, под сомнение. Проезжая мимо Новодевичьего, он вдруг вспомнил, как друг его юности Коля Семенов, веселый, красивый, бесхитростный парень, в двадцать шесть лет заболел очень странной болезнью, от которой у человека постепенно отказывают все мышцы и тело становится вялым, как тесто, а Ваня Аксаков, серьезный ученый, лечил всем, чем можно, несчастного Колю, боролся за Колину жизнь, и как Коля, сначала хрипевший: «Спаси!», постепенно просить перестал, отстранился, весь сжался, и вместе с тем, как изменялось все тело, он сам изменялся душевно и сам как будто сдавал это грешное тело, как пьяница утром сдает с облегченьем пустую бутылку из-под «Солнцедара».