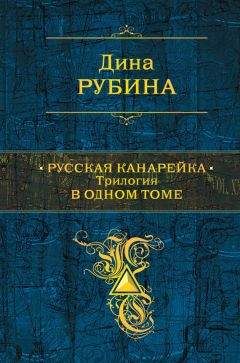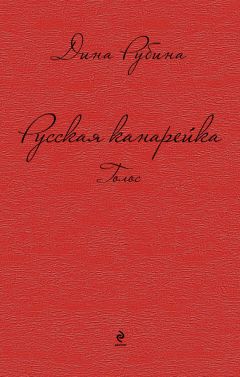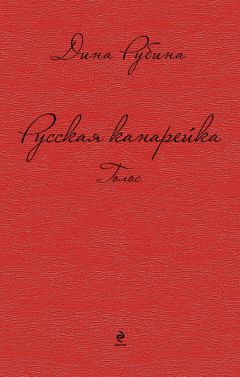– А что прикажешь делать, если я все еще мужчина? – чем привел того в восторг.
Плевать, конечно, на все похоронные ритуалы и тем более на признание политических заслуг. Вот слушать истории Иммануэля, пусть и повторенные слово в слово, всегда было радостью… Как и просто сидеть у огромных колес его гениального кресла, выписанного по каталогу фирмы одного безумного изобретателя, впоследствии прогоревшего: Иммануэль обожал новшества и наверняка был единственным, кто заочно купил этот дикий, космический по виду агрегат.
Свой дом в Савьоне он почему-то упорно называл «бунгало». В воображении Леона при слове «бунгало» возникала хлипкая приземистая постройка с камышовой крышей. Дом же Иммануэля, выстроенный им когда-то с горделивым размахом в стиле мексиканской гасиенды, хотя и был одноэтажным, но с четырехметровыми потолками, четырьмя великолепными колоннами у входа, с гигантским холлом, чья стеклянная раздвижная стена выходила прямо в просторное, обсаженное старыми пальмами патио с необычно глубоким, как озеро, бассейном.
Сколько же вечеров Леон просидел со стариком у этого бассейна, глядя, как струя электрического света из холла колышется на воде, скользит по стволам, перебирая вееристые листья пальм! Между пальмами расставлены широкие низкие кадки с кустами любимой стариком лаванды («Твоя убогая лаванда, папа! Давно пора посадить тут цветы…» – и цветы были посажены сразу после смерти Иммануэля).
Запах воды, смешанный с запахом лаванды, лунный свет на плитах пола; чувство настоящего дома – то, что со смертью старика утрачено даже в мечтах.
В двенадцать ночи у бассейна возникал один из «ужасных нубийцев» и уносил старика на спине – огромное кресло застревало в дверях спальни. Бывало, являлись вдвоем, ровно в двенадцать – в этом они были неумолимы. Иногда Иммануэль, не оборачиваясь, раздраженно поднимал ладонь, как бы приказывая оставаться на месте, пока он не попрощается с гостем. «Ужасные нубийцы» молча застывали минуты на три – в этом было нечто постановочно-голливудское, – после чего вновь спокойно и настойчиво подступались к старику. Он называл это «передислокацией к ночному горшку».
– Ты останешься ночевать? – каждый раз спрашивал старик уже вполоборота. Маленькая веснушчатая кисть выразительно «крутит штопор». – Цуцик, почему ты никогда не останешься ночевать? Я бы хотел однажды с тобой позавтракать. Что у тебя за вечные привычки полевого агента? Неужели тебе охота мчаться на ночь глядя в Иерусалим? Тебя ждет там женщина? Только ради женщины я мог вскочить и лететь бог знает куда… Но Леон не оставался у него ни разу, это правда.
Впрочем… стоп! Однажды он вломился к Иммануэлю ночью – той ночью, когда не убил Владку, слава богу; не убил мать, а просто выбежал из дому, прыгнул на мотоцикл и, выжигая предельную скорость, чуть не за полчаса примчался к Иммануэлю. Тот уже лежал в кровати, но еще не спал – читал в свете настольной лампы. И даже не вздрогнул, когда Леон возник в дверях. Просто молча смотрел поверх очков, как тот шагнул в комнату, рухнул на низкий пуф напротив и мучительно выхаркнул:
– Я – араб…
Тогда старик улыбнулся (и эту улыбку забыть невозможно, она парит над всей жизнью: конопатая старческая улыбка, отменяющая вздор, пошлость и жестокость этого мира), помолчал, легонько кивая каким-то своим мыслям, и домашним уютным тоном, сминающим мотоциклетный надрыв, задумчиво проговорил:
– Так вот от кого она тебя родила…
Итак, два верных «ужасных нубийца» уносили старика на плечах… Прежде чем пересечь холл и по мраморным ступеням спуститься в ночной сад, изысканно подсвеченный фонариками, Леон несколько мгновений стоял и смотрел вслед этой процессии: в ней было что-то из обихода цезарей…
Когда они оставались вдвоем, Иммануэль переходил на русский. Великая штука – родной язык, говорил он, черт бы его побрал! Родной язык… его хочется держать во рту и посасывать слоги, как дегустатор слагает подробности аромата винного букета, лаская его послевкусие. Хочется ворочать камешки согласных между щек, а гласные глотать по капле, и чтобы смысл иных слов уходил глубоко в землю, как весенние ливни в горах…
Он по-прежнему много читал по-русски, поэтому сохранил язык, хотя говорил с небольшим акцентом, но говорил ярко, запальчиво, иногда неуместно-цветисто, немного книжно, пересыпая вполне культурный текст занозистыми харьковскими словечками и ругательствами: «сявка», «ракло», «раклица»…
Так вот, байки Иммануэля. Особенно та, молитвенно-бордельная, под летящим косым венецианским снегом:
– В ноябре сорок седьмого, суч-потрох, да! В ту осень ООН приняла резолюцию о создании государства: ноябрь сорок седьмого. Как топором по шее! И башка моя слетела к чертям – я был счастлив, суч-потрох! Мы с Шифрой тогда приехали из Лондона в Париж проведать Алекса – ему исполнилось тринадцать, он учился в закрытом пансионе, который стоил нам кучу денег. Но я никогда не думал о деньгах. Я всю жизнь делал их, и порой делал из ничего, но никогда им не служил и не позволял, чтобы они как-то влияли на мое отношение к близким и друзьям, да и к себе самому. Короче, это был самый счастливый день моей жизни – когда я узнал, что у нас будет своя Страна… И сразу же тут началась бойня – арабы не могли допустить подобного оскорбления, мы были как чирей у них на заднице – и не сядешь, и не вырежешь. А мы были голы и босы в своем торжестве, и чресла препоясаны ветошью… Ну, не совсем, конечно, ветошью – Хагана перед этим уже подсобрала оружия, но все оно было таким пестрым – и по калибрам, и по моделям, и по возрасту: финские «суоми», американские «томпсоны», британские «стэны» – их покупали у арабских контрабандистов или просто воровали с британских складов… Но этого было недостаточно! Арабская саранча прет со всех сторон, а у нас кривая берданка и фанерный грузовичок, суч-потрох! Плюс эмбарго на поставку оружия в наши края, которое поспешили наложить американцы, – лучше бы они в штаны себе наложили! А, скажу тебе, к тому времени я месяца три уже как был стерлинговым миллионером – благодаря той исключительной афере с закупкой хлопка в Египте. Я тебе о ней рассказывал? Так послушай еще раз, это просто менуэт, сарабанда, мазурка! В Палестине были текстильные предприятия, но не было пряжи. Зато в Египте было столько хлопка, что там не знали, куда его девать, хоть подтирайся им. Ну, а в Италии – ты следишь за пируэтом? – в Италии Муссолини перед войной создал мощную текстильную промышленность. Так что я сложил два и два, впендюрил в дело весь мой капитал – на тот день у меня было аж восемь тысяч фунтов стерлингов! – и запустил этот маховик: сырье из Египта в Италию, из Италии пряжу – в Палестину, контрабандой. Разворот, поклон, пары сходятся… Риск был колоссальный! Почтенные деловики смотрели на меня, как на олуха царя небесного, пальцами крутили у виска. Но уже в апреле сорок шестого я был тем, чем был, – коротышкой с миллионом в кармане. Правда, только с единственным миллионом, но это казалось огромными деньгами, и я сам себе выглядел королем и даже чуток подрос, а? А тут – своя Страна, и своя война, и своя кровь льется такой широкой рекой, что эта самая страна вот-вот захлебнется. Я был как одержимый: ехать, сражаться, суч-потрох!.. Но мне нашли другое применение. Мне позвонили ночью. Причем, не застав меня в отеле, обзвонили по цепочке всех моих знакомых и – это я узнал позже – прочесали все злачные места, где я любил тогда бывать: в «Ля Куполь», и «Ле Дом» и «Ля Тур д’Аржан». Но накрыли меня в «Мерисе»… Это был один из самых шикарных ресторанов: в отеле «Мерис». Там подавали дивную рыбу – тюрбо, например, – ну, и омаров, лангустов и отличных устриц… Почему помню так ясно? Потому что встретил там Дали. Он любил останавливаться в «Мерисе» и частенько там же обедал – деньжата у него водились, папаша его был небедным человеком…
…Кстати, я рассказывал тебе, цуцик, что был на том знаменитом обеде у Поля Элюара и Макса Эрнста, с которого Дали увел Галу? И Эрнст и Элюар в то время жили с ней – оба. Такие связи были не то что приняты, но как-то вполне проглатывались обществом. Дали был приглашен туда среди прочих и, отобедав, преспокойно увел Галу – навсегда.
Так вот, как только я приметил их в «Мерисе», мне стало интересно, что заказывает себе в подобных заведениях такой чокнутый оригинал. Между прочим, никогда не считал его хорошим художником. Он был шоуменом, клоуном, возмутителем нравов, но, в конечном счете, прежде всего расчетливым дельцом… Я поднялся и направился в мужскую комнату мимо их столика – я был страшно любопытен. Гала разделывалась с устрицами, Дали ел йогурт! Ложечкой. Между прочим, к твоему сведению, йогурты во Франции появились с легкой руки некоего Исаака Карассо и поначалу продавались в аптеках – индустрия возникла позже, компания называлась «Данон»… Так вот, когда я вернулся из мужской комнаты, ко мне подошел официант и пригласил к телефону. Звонил Ицхак Бен-Цви, один из тех, кто тогда метался в Палестине от одной бреши к другой, пытаясь закрыть их чуть ли не собственным телом. Он был дико напряжен, усталый, взвинченный. Сказал: Иммануэль, срочно нужны деньги на закупку оружия. Русские дали добро, хотя прямые поставки из Москвы исключены. Оно пойдет из Чехословакии, оружие – частью трофейное, германских образцов.