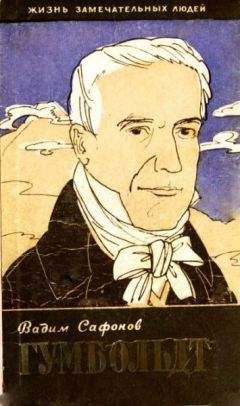– Русским почему-то не доверяют, – сказал папа. – Считается, что у русских камень за пазухой.
– Не в том дело, – сказал профессор. – Если бы это предложил наш кайзер, или английский король, или президент Франции – ему бы тоже не поверили. Потому что вся европейская общность рухнула, когда возникли нации. Это страшное слово – национальность, – сказал профессор. – Не знаю, слово тут виновато или что-нибудь еще, но повторяю: европейские нации превратились в племена. Единство Европы было возможно – и оно существовало, дорогой господин Тальницки, – когда Германия была разделена на два десятка княжеств, а Италия на разные королевства и области.
– Поразительно интересная мысль, – произнес мой папа вежливым голосом. Он всегда так говорил, когда был с чем-то не согласен. – Великолепная пища для размышлений. Но я должен извиниться перед вами за свою дочь. Она утром уехала кататься и вот опаздывает. Признаться, я даже слегка волнуюсь: не приключилось ли с ней чего-нибудь? Но будем считать, что вы прочитали эту лекцию мне.
– И мне тоже! – громко закричала я, распахивая дверь и вбегая в комнату. – Здравствуйте, профессор! Я сижу под дверью, не решаясь войти. Ваша супруга может подтвердить. Я уже давно сижу. Я просто зачарована вашими мыслями. Но я ужасно голодна. Папочка, распорядись, пожалуйста, чтоб нам подали что-нибудь вроде позднего завтрака. Нам всем: господину профессору, его супруге и нам с тобой.
– О да! – закричал папа. – О да! Конечно, господин профессор. Мы с дочерью будем счастливы, если вы с супругой пообедаете с нами!
Почему-то я была уверена, что профессор непременно откажется.
Но он пробормотал нечто вроде «Да, благодарю вас, господин Тальницки! Благодарю!». Папа кликнул Генриха. Генрих позвал Мицци, и тут выяснилось, что обеда дома нет. Вернее, обед-то есть, но никак не на четыре персоны.
Папа нахмурился и приказал Генриху быстро слетать в ресторан, приготовить все за полчаса, самое большее. Теперь-то я точно была уверена, что профессор откажется, станет говорить что-то вроде «Ну чему такие хлопоты? Нам с женой так неловко!», но он, к моей легкой досаде, оставался сидеть и хотя, конечно, пробормотал нечто вроде «Ну к чему такие хлопоты?», но при этом видно было, что он совсем не против пообедать в нашей компании. Мне это показалось немножко странным, потому что я помнила, как его жена всегда решительно отказывалась от чашечки чая или кофе с пирожным, когда ее угощали или Генрих, или папа. «Нет, нет, нет, благодарю вас». Я посмотрела на профессора. Если бы он был зрячий, я бы взглянула на него исподтишка, скосила бы на него глаза. Но так как профессор был абсолютно слеп, я рассматривала его лицо, не скрывая своего интереса. Наверное, настолько нахально, что даже папа хмыкнул, строго покосился на меня и пошевелил бровями. Но я в ответ ему пожала плечами и наморщила нос, напоминая папе, что профессор совсем ничего не видит.
У профессора, кстати говоря, было приятное лицо. Сухое, строгое, с выпуклым лбом и коротко подстриженными седыми волосами на висках. Он был чисто выбрит. Мне даже интересно стало, кто же его бреет. Неужели они приглашают парикмахера? Или ходят в парикмахерскую? Или, может быть, его бреет жена? На носу у него были маленькие сильные очки, плотно придвинутые к глазам. Поэтому издалека могло показаться, что профессор вовсе не слепой. Однако он, по его собственным рассказам, начал терять зрение двадцать лет назад и сейчас только едва различает свет и тьму. То есть видит, а скорее, чувствует, когда ночь, а когда день, а также, как он говорил, в солнечный день различает окно на стене как неопределенное светлое пятно. Но уже фигуру на фоне окна различить не может, а еще пять лет назад мог. Мне нравилось, что он так спокойно и свободно говорит о своей слепоте.
– Фрау Дрекслер! – закричал папа, подошел к двери и раскрыл ее. – Фрау Дрекслер, идите к нам!
– Иди к нам! – подтвердил профессор. – Мы сегодня обедаем у господина Тальницки.
Жена профессора безропотно поднялась и вошла в мою комнату, где шел разговор.
– А вот сейчас, – сказал папа, – а вот сейчас мы потихонечку перейдем в гостиную.
Он встал и рукой показал дорогу. Жена профессора взяла мужа под руку и повела вслед за папой. Я замыкала процессию. Мы уселись на диванах.
– Сигару? – предложил папа.
– Перед обедом? – улыбнулся профессор.
– Ах, да, извините, – улыбнулся папа. – Может быть, аперитив? Рюмочку коньяку?
– Благодарю, – сказал профессор. – Маленькую рюмочку. Только если можно, не коньяку, а водки, но совсем маленькую.
Папа покрутил головой, хотел было позвать Генриха, но сообразил, что Генриха он только что услал в ресторан. А звать для такого случая горничную он не захотел. Не дело горничной подавать господам напитки. Поэтому папа с выражением благородного подвига на лице – мне даже смешно стало на это смотреть: на лице его была нарисована журнальная картинка под названием «Принц Уэльский в холерном бараке» – и вот так, с выражением щедрости, скромности, великодушия и готовности послужить малым сим, едва ли не «омыть ноги апостолам», папа возился у буфета, выставляя на серебряный поднос рюмки, наливая крохотную стопочку водки для профессора и немного коньяка для себя. И потом, торжественно улыбаясь, поставил все это на одноногий гостиный столик, стоявший как раз у дивана, на котором сидели профессор и его жена.
Фрау Дрекслер вложила стопку в пальцы своего мужа.
– А вам, фрау Дрекслер? – спросил папа. – Может быть, ликера, коньяку, портвейна?
– Благодарю, нет, – сказала старушка.
– Ваше здоровье, профессор, – сказал папа, осторожно касаясь своим коньячным бокалом хрустальной стопки, которую держал в своих руках профессор. – По-русски! – сказал папа. – Пьем чокаясь. Мне нравится этот обычай. Откуда он взялся, профессор, не знаете?
– Совершенно точно, что из феодальной старины. Но объяснений много, и все они какие-то неубедительные. Кстати, господин Тальницки, у нас не найдется какого-нибудь орешка или сухарика заесть водку?
– Секундочку, – сказал папа и с тем же выражением жертвенного благородства пошел к буфету.
Как интересно.
Я только сейчас узнала, как фамилия моего учителя политических наук. Раньше я называла его просто «профессор», а его жену в уме называла «жена профессора», и точка. Как это странно. Мне совершенно не приходило в голову узнать не то что как его зовут, а хотя бы как его фамилия. Получается, что он был для меня никто. Просто, извините за выражение, работник. Хотя нет, работников у нас в имении я знала по именам. Не всех, конечно, а тех, которые часто попадались на глаза. Которые подавали, убирали, стирали, гладили, вскапывали газоны, управляли лошадьми и все такое прочее. А профессор был для меня просто профессор. Даже удивительно. Эта старая селедка – учительница всемирной истории, включая историю изящных искусств – тоже была учительница, и все. Мне даже интересно стало, а как они меня называют в уме? А вдруг я для них тоже просто «эта девчонка». «Эта барышня». Или «эта дура». В лучшем случае «дочка Тальницки». Хотя нет. Вот учителя русского языка я знала, как зовут, и звала по имени и отчеству – Яков Маркович. Может быть, все дело в том, что русские такие открытые, а наши такие чопорные, застегнутые на все пуговицы. Все может быть.
Мне вдруг показалось, что на губах профессора Дрекслера (теперь я буду называть его так) играла легкая усмешка. И еще мне показалось, что он нарочно согласился у нас пообедать, потому что ему захотелось немножечко испытать моего папу и меня. «Ах, вы предложили мне и моей жене остаться у вас на обед? Ну что ж, отлично! Посмотрим, что у вас из этого получится». Я даже немного разозлилась на профессора, потому что мне было о чем поговорить с папой, и гораздо лучше было бы, если бы он твердо и строго отказался от предложения пообедать. И я смогла бы папе позадавать кое-какие вопросы. Но, с другой стороны, я же сама виновата. Это я пригласила их обедать. Это я попросила папу устроить нам обед. Поэтому с моей стороны злиться на профессора было бы чистейшим лицемерием. А то, что профессору было интересно, как мы вывернемся из этой ситуации – что ж, на то он и профессор. Ученый. Исследователь. Смешно, правда?
Тем временем в гостиной уже несколько минут стояло неловкое молчание. Папа принес из кухни вазочку очищенных орехов. Профессор попивал водку из крошечной стопки совсем уже микроскопическими глотками. Даже можно сказать, не пил, а смачивал губы и облизывал их кончиком бледного языка и катал за щекой ореховое ядрышко. А папа тайком поглядывал на часы, ожидая, когда же наконец придет Генрих с едой.
– Профессор! – сказала я. – Меня давно преследует вот какая мысль. Вот мы живем в имении. И мы с папой только двое господ. Ну, еще папин камердинер и до недавнего времени моя гувернантка. Условно говоря, четверо. Четыре человека, которые живут, палец о палец не ударяя, в смысле физического труда и простых каждодневных забот. А всё для нас – понимаете, всё-всё, начиная от выпечки хлеба и забоя скота на мясо и кончая совершеннейшей ерундой, вроде стряхнуть пыль с фарфоровых статуэток или завязать мне бантик на шляпке – всё это делают люди. Вы понимаете, профессор, о ком я. «Люди», так сказать, в кавычках. Раньше они были вообще наши крепостные. А сейчас, ну вы сами знаете, как они называются. В общем, они не перестали быть нашими крестьянами. Хотя император даровал им личную свободу.