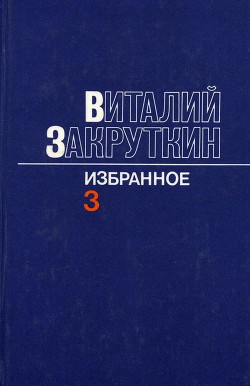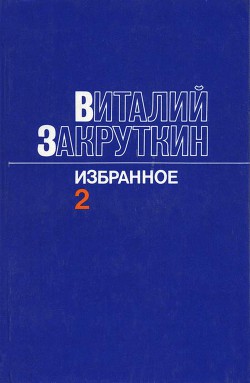Подняв к глазам ладонь, тетка Лукерья останавливается, вздыхает — до чего ж хорош божий мир! Будто розовое озеро, мерцает вдали, тихо светится марево. Солнце кинуло червонную позолоту на вершины высоченных скирд. Распласталась над полями, мельтешит, трепещет крылами ржавчато-рыжая пустельга. У самой дороги взвивается смирный хохленок-жаворонок. Вон, видать, за скирдами дед Силыч пасет огнищанское стадо. Коровы разбрелись по стерне, деловито выбирают не тронутую косами лебеду, а дед сидит, поджав ноги, — должно быть, мастерит что-нибудь, руки у него никогда не бывают без дела: то ложку старик вырезывает из грушевого корневища, то лапоть плетет, то замысловатую корзинку из вербовой лозы.
«Пойду к нему, напьюсь воды», — думает Лукерья. Она сворачивает с дороги. Босые ноги привычно покалывает, холодит чуть увлажненная росой стерня. Лукерья слегка замедляет шаг и смотрит на Силыча. Дед привстал, приглядывается: кто это, мол, такой ранью в поле пожаловал?
Лукерья усмехается краешком губ. Чудной человек дед Силыч! Тоже бедовал, маялся всю жизнь, а не поддался судьбе. Дед и отец его были крепостными генерала Зарицкого, а он сам, Иван Силыч, годов десять бурлаковал на Волге, нас скот у барина Рауха, только и было у него что шиш в кармане да вошь на аркане — так за свой век и не нажил ничего. Покойную жену его, Меланью, тетка Лукерья хорошо помнит: ладная баба была, работящая, смиренная. Как раз перед японской войной она затяжелела, была уже на пятом месяце, и довелось ей поднять в погребе кадку. Дитё после этого она скинула безвременно, а сама изошла кровью и померла. Силыч долго горевал, остался вдовцом-бобылем, молчаком, пас барский скот, а как-то, перед самой революцией, задумал уйти в монастырь, на Новый Афон, — видно, допекла человека злая недоля. Попрощался он с огнищанами, закинул торбу за плечи, взял посошок и ушел из деревни. Не слыхать его было с полгода, потом он вернулся и на все расспросы только рукой махал: нехай, мол, монахи сами молятся, а мне эти монастырские порядки не по нраву! А теперь, гляди, — землю получил, хатенку себе слепил, плечи распрямил, вроде даже голос у него погромче стал…
Подойдя к старику, тетка Лукерья степенно поклонилась:
— С праздником вас, Иван Силыч!
— Спасибочко, голуба моя, — кивнул дед, помедлил маленько и отложил на стерню опорок с наживленной тремя гвоздями подметкой.
— А я собралась в Пустополье, к обедне хочу поспеть, — объяснила тетка Лукерья. — Гляжу, наши коровки по стерням ходят, значит, думаю, Иван Силыч тут, можно у него водой разжиться, а то в горле все чисто пересохло.
— Как же не быть воде! Есть водица. Ступай вон под ту копешку — там, в холодочке, моя долбленка захоронена, тыковка, бери и пей на здоровье.
Оставив возле Ивана Силыча завернутую в рябенький платок плетенку и тапочки, тетка Лукерья пошла к прибитой дождем и ветрами копешке, разгребла солому и долго пила прохладную, пахнущую тыквенными семечками воду. Потом, уложив все как было, вернулась к деду, присела рядом, аккуратно подвернув подол платья.
— Отдохну маленько да пойду, — сказала она.
— Отдохни, — согласился Силыч. — Тебе еще версты четыре шагать…
Помолчали. Дед раз или два, не сходя с места, окрикнул отбившихся от стада коров, и те, подняв лобастые головы, вслушались в дедов окрик и вернулись назад.
— Слухается тебя худоба, — с одобрением сказала Лукерья. — Иной пастух одно знает — бегает кругом, палку кидает. А ты раз сказал — и скотина поняла.
Силыч самодовольно почесал бороду.
— А чего ж тут мудреного? Животина голову имеет, разумом действует — значит, и разбирает любой разговор.
Тетка Лукерья отыскала глазами свою красную, с лысиной корову.
— Моя как, не балует?
— Чего ей баловать? Коровенка славная, молодая, знай себе жует да жует.
— Хлебушко ныне добрый скрозь, — счастливо вздохнула Лукерья, оглядывая высокие стерни. — Антон Терпужный, говорят, чуть не полпуда с каждого снопа взял.
Дед слегка помрачнел, потянулся к оставленному опорку, повертел его в руках.
— Как же ему не взять, ежели он пахал пар на две четверти глубиною да навоз позабрал почти что со всей Огнищанки! Такой возьмет! Сеет он не вручную, а сеялкой, убирает самоскидкой, прополку хлебам делает. А наши мужички, заместо того чтоб своему наделу пользу принесть, помогают Терпужному. Навозу, мол, тебе надо — бери, нам все одно выкидывать… Участок тебе обменить — приплати червонец и забирай мой ровный, а мне, значит, давай на балке или же на солонцах — мне, мол, так и так хлеба не видать…
Притворной зевотой Силыч прикрыл свое возмущение.
— Глупой у нас народ, Лукерья, дикий народ. Советская власть землю дала всем мужикам одинаково, даже самая голь и та получила свою норму. Кажись, ежели ты человек с умом, бери и работай. Мочи не хватает, тягла нету? Спрягайся, голуба моя, с соседом, таким же бедняком, и трудись, двоим легче управиться. А мы почти что все навроде дурачков — нехай, дескать, сосед свою землю палкой пашет, а я на своей буду ковыряться этим же макаром…
— Никола Комлев каждый год помощь мне оказывает, — сказала Лукерья, — то коня даст для пахоты, то хлеб скосит, снопы до дому свезет, а я ему помогаю полоть, вязать, все, чего надо.
— То-то и оно…
Снова наступило молчание. Дед взял опорок, ткнул его шилом раз-другой и, поглядывая на Лукерью, стал пришивать подметку. Тетка Лукерья, которой, видно, хотелось поговорить, стала выкладывать деревенские новости, резонно полагая, что Силыч, кочующий со стадом с рассвета до ночи, может их не знать.
— Про ведьмину дочку слыхал? — спросила она, поджав губы.
— Которую?
— Лизавету.
— А чего такое?
Тетка Лукерья понизила голос:
— Есть слух, что нагуляла она себе. Вчерась ведьма Шабриха полосовала ее сыромятной постромкой, за косы тягала, всю в пылюке вываляла, а она, скажи ты, хотя бы крикнула или заплакала. Только, говорят, побелела с лица и Чубу зубами прикусила…
— С кем же она нагуляла? — удивился Силыч. — Огнищанские парни и не подходили до нее, небрегли, сукины коты, знаться с нею не хотели.
— Разве ж теперь узнаешь с кем! Матерь целый час ее допытывала: «Признавайся, с каким волочаем путалась!» А она, скажи, как воды в рот набрала.
В слезящихся дедовых глазах мелькнула жалость.
— Вот беда-то! А дивчина она хоть куда… Чего ж они теперь делать будут?
— Вчерась Лизавета, говорят, бегала до фершала, до Митрия Данилыча, — сказала Лукерья, покусывая соломинку, — просила, должно, чтоб ослобонил он ее. А фершал поглядел и говорит: «Ничего не могу сделать, поздно уж…»
Увязав половчее свою плетенку, тетка Лукерья поднялась.
— А про меньшего фершалова сына ты тоже ничего не знаешь?
— Про Федю?
— Про него. Обратно вчерась же батька его Митрий Данилович до председателя ходил в сельсовет. Вроде Федька ехал прошедшим воскресеньем с Пустополья, остановился в Казенном лесу попасти кобылу и наткнулся на бандитов, весь их разговор слыхал.
— Каких таких бандитов? — поднял голову Силыч.
— Кто их знает! Одного, говорят, вся волость разыскивает, чи полковника, чи генерала, а другой вроде из наших, только не могут узнать кто. Сегодня до света душ десять в Казенный лес подались на конях — председатель Длугач, Демид Плахотин, Коля Комлев, Павло Кущин, все с ружьями. И фершал с сыном поехали, чтоб, значится, место указать, где хлопчик разговор слышал.
— Про чего ж разговор был у этих самых бандитов?
— Будто про то, чтоб Советскую власть скинуть, а царя обратно установить.
— Обормоты! — сплюнул Силыч. — Пеньки дурноголовые! Никаким родом не возьмут в понятие, что руки у них до плеч обрубили и некуда им соваться. Разве ж народ отдаст теперь свою власть? Он ведь, народ, хозяином стал, чего ж ему обратно в ярмо-то идти?
Тетка Лукерья поклонилась деду:
— Прощевай, Иван Силыч. Солнышко поднялося…
Через час она дошла до Казенного леса, но никого там не встретила — ни огнищан, ни бандитов. В лесу вместе с прохладой и свежим запахом трав ее окутало безмолвие, и она, пробираясь напрямик по тропинке, подумала, что ставровский мальчишка чего-нибудь напутал и люди переполошились напрасно.