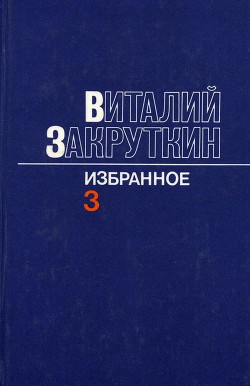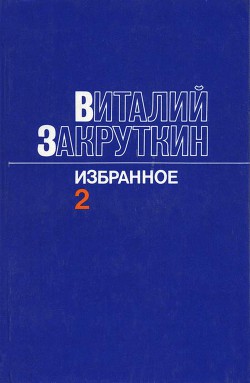В церковь тетка Лукерья пришла как раз вовремя — дряхлый отец Никанор закончил литургию и вышел с причтом во двор, на освящение. Во дворе, справа от церкви, в тени густых акаций, двумя рядами расположились прихожане, большей частью старухи. Они сидели на примятой траве, и перед каждой из них был расстелен головной платок, на котором румянились горки яблок, груш, янтарно желтели разложенные по глиняным мискам медовые соты. После страдных летних месяцев люди принесли в церковь земные дары, чтобы воздать в этот день благодарение богу за его щедроты и окропить свяченой водой все, что уродила кормилица земля. Люди еще верили, что не их труд, не их затвердевшие от мозолей руки создали эти блага, а божье слово, которому все послушно на земле и на небе…
Акация бесшумно роняла листья; в воздухе лениво жужжали пчелы; женщины с темными, строгими лицами терпеливо дожидались священника, тихонько говорили о своих семейных делах.
Отец Никанор, блестя золоченым шитьем фелони, склонив голову в потертой лиловой скуфье, пошел к людям, и за ним табуном двинулись растолстевший отец Ипполит, дьякон с кадилом, псаломщик, ктитор. Женщины закрестились, закланялись, суетливо оправили расстеленные на траве платки.
Слабым, деревянным голосом прочитал Никанор положенные молитвы, влажным кропилом легонько обрызгал мед, яблоки, поклонился и, волоча ноги, пошел в церковь. Бабы загомонили, завязали свои узелки, плетенки, торбочки и разошлись по домам.
Тетка Лукерья решила немного отдохнуть в церковной ограде, ослабила узел платка, присела на широкой скамье в тени, а рядом положила узелок. Она видела, как из церкви выбежал отец Ипполит. Псаломщик нес за ним туго набитый мешок с приношением. Потом вышли сутулый, вечно пьяный дьякон Андрон и ктитор, седоусый старик в соломенной шляпе.
Отец Никанор вышел последним. Он постоял на паперти, огляделся, подошел к Лукерье и присел рядом, вздыхая и покашливая.
— Благословите, батюшка, — поклонилась Лукерья.
— Бог благословит, — отрывисто сказал поп, и женщина, конфузясь, поцеловала пахнущую воском старческую руку с толстыми венами и коротко подстриженными ногтями.
— Из Огнищанки, кажется? Лукерьей звать? — покосился Никанор.
— Лукерьей, батюшка, — радуясь тому, что старый священник помнит ее имя, ответила Лукерья.
— Верующая? — сурово допрашивал отец Никанор.
— А то как же! Верующая, посты все сполняю, говею, в церковь хожу.
Пунцовый, с мелкими крапинками жучок сел на руку священника, деловито пополз под широкий рукав черной рясы. Никанор отвернул рукав, бережно снял жучка, опустил его на землю и следил за ним, пока он не скрылся в траве.
— Как у вас там, в Огнищанке, не обижают верующих? — спросил отец Никанор.
— Кто, батюшка?
— Власти.
— Обижать не обижают, а разговор против бога ведут, — запинаясь, сказала Лукерья.
— Какой же разговор?
— Что, дескать, никакого бога нету, что его, мол, цари да богачи выдумали, а люди по своей темноте веруют.
— И про попов говорят?
Тетка Лукерья смутилась, недоуменно посмотрела на Никанора.
— Разное говорят.
— Что же?
— Вы сами знаете, батюшка, — вконец растерялась Лукерья, — что попы… что вы, дескать, нетрудящие люди, полезной работы не делаете, народ в обман вводите…
Ей странно и неловко было рассказывать это, и она даже подумала, что поп издевается над пей, но лицо Никанора было печально и строго, глаза какие-то пустые, невидящие, как у тяжело больного человека. Он посидел молча, неподвижный, задумчивый, точно рядом с ним никого не было, потом неторопливо повернулся к тетке Лукерье и проговорил:
— А ты сама что думаешь, Лукерья?
— Про чего, батюшка?
— Про бога. Есть он, бог, или нет?
Тетка Лукерья боязливо отодвинулась, заморгала растерянно.
— Разве ж я могу знать? — пробормотала она. — Разумные люди говорят, что есть, стало быть, есть… Где ж мне, темной да неграмотной, знать это…
Седая борода отца Никанора затряслась.
— Умные люди! Одни умные люди утверждают, что есть, а другие, не менее умные, доказывают, что нет. Кому ж из них верить? Надо самой думать, Лукерья, самой до правды доходить…
С острым любопытством всматриваясь в темное, изборожденное морщинами лицо женщины, отец Никанор спросил:
— Ты смерти боишься, Лукерья?
— Известно, боюсь, батюшка, — залепетала тетка Лукерья, — кто ж ее не боится? Все люди ее боятся…
— А почему? Ведь в писании сказано: если жил ты праведно, тебе уготовано царство небесное. Так, что ли?
— Так-то оно так, а только боязно, батюшка… может, там и нет ничего?
Тетка Лукерья поднялась со скамьи, подхватила свой узелок, вынула из плетенки только что освященное яблоко, протянула попу:
— Пора мне, батюшка… Ты возьми вот яблочко, скушай на здоровье, это из моего садочка, покойный Петр сажал…
Отец Никанор машинально взял прогретое солнцем яблоко, кивнул Лукерье:
— Спаси Христос. Иди с миром…
«Не иначе как умом тронулся поп, — подумала тетка Лукерья, выходя из ограды и с испугом оглядываясь на сидевшего под акацией священника. — Глаза у него ровно у младенца, а речи неподобные, грешные… Должно, зашел у старого ум за разум…»
Тетка Лукерья не могла знать и не знала всего, что в последнее время происходило в душе отца Никанора. Между тем уже довольно давно, почти три года, с того самого дня, когда в него стреляли за то, что он отдал голодающим церковные ценности, в отце Никаноре непрерывно, не только в долгие часы старческою бодрствования, но даже во сне, происходило нечто очень важное, пугающее его самого. Отец Никанор стал сомневаться в существовании бога. Вначале он не только устрашился этих сомнений, но счел себя великим грешником, хотел оставить священство и уйти в монахи, чтоб не обманывать людей, а наедине с собой решать неразрешимый вопрос о боге. Потом он отогнал от себя эту мысль, полагая, что уход в монастырь будет бегством, жалкой попыткой спрятаться от того мучительного испытания, которое, как он думал, было ниспослано богом для укрепления его слабой и шаткой веры.
Отец Никанор видел в Пустополье, в Ржанске, даже в отдаленных глухих хуторах, как молодые парни-комсомольцы, девушки-учительницы, пожилые рабочие, школьники с веселой насмешкой жгли на площадях вынесенные из хат иконы, плясали, пели разухабистые песни о непорочном зачатии, о рождестве и воскресении Иисуса, о святых, о попах. Было в этом что-то вызывающе-сильное, пугающее и непонятное. Но уличные пляски и грубое ряженье не пугали отца Никанора, пугало его другое.
Старика ужасало то, что многие люди, приходя к нему на исповедь, все чаще говорили о своих сомнениях, все чаще и откровеннее задавали вопросы о несуразностях и противоречиях в священном писании, и он, вместо того чтобы так же прямо и откровенно сказать, что он сам сомневается и страдает, что ему трудно, невозможно ответить, есть ли бог или нет, длинно и скучно говорил о необходимости верить не размышляя, молиться и каяться в грехах. Он даже накладывал на прихожан суровые епитимии — заставлял их бить несчетные поклоны, стоять в притворе, поститься в неурочное время, а сам по ночам часами стоял на коленях, готовый принять весь грех людской на себя. До рассвета говорил он с богом, в которого уже не мог верить, но еще надеялся на что-то.
— Аз бо един, владыко, ярость твою прогневах, — бичевал себя старый поп, — аз един гнев твой разжегох, аз един лукавое сотворих, превосшед вся от века грешника… Се аз ввергаю себя пред страшное и нетерпимое твое судилище, и якоже пречистым твоим ногам касайся, из глубины души взываю ти: очисти, господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, поклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи… Да будут познаны во тьме чудеса твоя и правда твоя в земли забвенней…
Прижавшись лбом к холодному затоптанному полу, Никанор все ждал чего-то, вслушивался в нудную возню голодных крыс, и перед его глазами вновь и вновь возникала вся никчемно, как теперь ему казалось, прожитая жизнь.