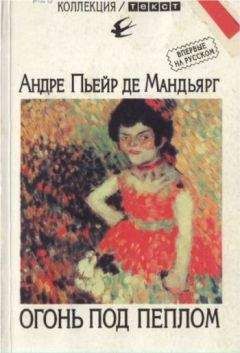Он привел меня в какую-то комнату, где я тщетно пыталась разглядеть, как мы с ним смотримся рядом, в грязном стекле зеркального шкафа, при тусклой лампочке, среди кошмарных занавесок в темно-красную и сиреневую полоску, которые висели по всем стенам, так, что не поймешь, где окно; может, оно и было, только его много дней, а то и недель, не открывали, и в комнате стоял удушливый запах пыли. Теперь он раздел меня совсем быстрыми и точными движениями санитара или живодера и бросил на низкую кровать, такую низкую, что мне казалось, будто я лежу на полу; он лег со мной и после недолгих ласк меня порвал. Немного удивившись тому, что я досталась ему девственницей, он сказал, что любит меня, он стал неловким и путался в словах. За это я полюбила его еще больше и возбуждалась, представляя себе в темноте его светлые глаза. С тех пор я принадлежала Луису Лозано. Овладев моим телом, он стал полным хозяином и всех моих мыслей, и мне казалось, я тоже завладела им.
Вскоре я забеременела и обрадовалась этому. У меня родилась дочка, сейчас ей пять месяцев, мы назвали ее Марианитой в мою честь. Но, по-моему, на него она похожа больше, чем на меня, и оттого она мне еще дороже, вернее, была дороже, потому что с прошлой ночи, после того, что случилось со мной, я не дорожу ничем, и даже Марианитой. Сейчас я все объясню, но прежде мне хочется склониться над милым образом Марианиты, как я наклонялась над ее колыбелью, вспомнить беспредельную любовь, которую мы оба к ней испытывали и которая нас соединяла, нашу общую тревогу, когда она заболела и стала кашлять, наше счастье, когда мы совсем недавно навещали ее в воскресенье за городом у старенькой родственницы Луиса, — она взяла девочку на воспитание до тех пор, пока мы не сможем ее забрать, пока не поженимся и не найдем жилья. Мы в самом деле решили подождать со свадьбой до тех пор, пока не накопим достаточно, чтобы жить не в конуре и не бедствовать. Оставалось потерпеть совсем немного.
Стыдно сказать, чем занимался Луис Лозано. Мы часто смеялись над этим, когда (почти всегда) у нас бывало хорошее настроение. Луис работает (вернее, работал, потому что для меня он умер, потому что я должна привыкать говорить обо всей своей жизни в прошедшем времени, как мертвая) ночным швейцаром в маленьком мотеле, где сдавал комнаты с гаражом незаконным парочкам, искавшим временного пристанища поудобнее и поукромнее, чем салон автомобиля. Большую часть дня он спал, а на работу выходил к пяти часам пополудни и оставался там до следующего утра. Один вечер в неделю у него был свободным, и тогда он шатался по кабакам или танцевальным залам, потому что слишком привык бодрствовать и не мог заснуть раньше того часа, в какой большинство людей встает и садится завтракать. Вот так мы и встретились в одну из ночей его законного отдыха, когда он пытался убить время при помощи алкоголя и шума, дожидаясь, пока ему захочется спать. Каждый день, или почти каждый, закончив работу и перехватив прямо на улице какой-нибудь кусок, я заходила за ним в контору мотеля, «на завод», как он говорил; к этому времени он успевал разместить дневных постояльцев. Ночные появлялись позже, и уж мы старались как можно лучше заполнить паузу! Из-за своей работы он не мог ни приходить в мою жалкую комнату, ни принимать меня в своей; когда он ложился в постель, я была в мастерской, и мы могли бы любить друг друга всего раз в неделю, если бы не мотель. На кое-как огороженной площадке рядом с вокзалом тянулись в два ряда крытые толем хибарки, выкрашенные через одну в белый и розовый цвет; в конце каменистого проулка между ними, под большим деревом, была служебная пристройка с уютным баром, где бутылками распоряжался Луис. Помогавшая ему служанка только меняла постельное белье и разносила по комнатам напитки. К каждой из комнат примыкал гараж, в него вела дверь, соседняя с ванной, от машины до постели надо было пройти всего несколько шагов, и никто вас не видел. Гудок или свет фар в окне разлучал меня с Луисом: он выскакивал из постели, с невероятной скоростью натягивал свитер, штаны и сандалии, бежал к машине, получал причитающиеся ему деньги, отпирал свободный гараж и возвращался ко мне так быстро, что я не успевала заметить перерыва в наслаждении. Я была счастлива.
Вчера Мара упрекнула меня в том, что я от нее отдалилась, и после работы я немного прошлась с ней, а потом раньше обычного отправилась на свидание, поскольку сейчас у нас сезон вечерних дождей, и небо угрожающе нависало над головой. Когда я добралась до мотеля, уже падали первые капли. Я ничего не ела, и Луис тоже не обедал, но пропустил несколько стаканчиков с какой-то парочкой, не то загулявшей, не то слишком робкой, отдаляющей продолжительными возлияниями неизбежный миг, когда им придется остаться вдвоем в четырех стенах, откинуть одеяло и запереть дверь на задвижку. Мы нашли в холодильнике фаршированный перец под красным соусом, прихватили теплые, мягкие кукурузные лепешки, банку варенья из гуаявы; мотель был еще совсем или почти пустым, и мы побежали в лучшую комнату, куда Луис предусмотрительно отнес бутылку белого рома. Раздевшись и разложив еду на простыне между нами, мы набивали рты, и Луис отпивал из горлышка чаще и неумереннее, чем пил бы, будь у него стакан, я же после нескольких глотков отказалась утолять жажду. Рот и голова у меня горели, но вода из-под крана нисколько не соблазняла меня — не то чтобы я, как туристы, боялась наглотаться амеб, но меня одолевала лень при одной только мысли о том, что надо выбраться из постели, оторваться от моего друга. Казалось, спиртное в тот вечер влекло Луиса больше, чем любовь, он лишь два-три раза провел рукой по моему нагому телу, как оглаживают испуганную лошадь, и я еще ждала, что он займется мною более основательно, когда с небывалой яростью разразилась гроза, — мысленно я сравнила ее с тем, что рассказывают о самых страшных бомбежках, и о том, каким должен быть конец света.
Гроза была прямо над нашими головами, в нас могла ударить молния, я знала это, потому что гром не рокотал, мы слышали оглушительный треск почти одновременно с прорезавшими ночной мрак огненными вспышками, но мучительнее самой мысли об опасности для меня было то, как сотрясалась наша хижина под ветром и дождем (или градом), как она гудела, словно негритянский барабан, вернее, тысяча барабанов, в которые лупила толпа исполинов. Я дрожала, как привязанная к колышку овца; которой некуда скрыться от нестерпимого грохота, я чудовищно потела, и меня тошнило. Я уверена, что в моем недомогании следовало винить не только разбушевавшуюся за стенами стихию, но и тяжелую пищу, которую я поглощала наспех, в избытке и почти всухомятку, не запив ничем, кроме капли рома; однако я засомневалась — что, если я снова беременна? Кислый запах, исходивший от моего тела, был непривычно сильным — как от опрокинутой аккумуляторной батареи. «Это гроза зарядила меня электричеством, — решила я, — я вся им пропахла». Между двумя ударами грома до нас донесся рев клаксона, отчаянный призыв стоявшей во дворе машины, она ждала нас, а мы и не догадывались о ее присутствии, потому что фар не было видно за непрерывными вспышками молний. Луис накинул валявшийся в комнате плащ и выскочил за дверь. Когда он вернулся, сердитый и насквозь промокший, я лежала, скорчившись, окаменев, совершенно равнодушная к его прикосновениям. Обозлившись, он снова принялся пить. Полыхнула молния, сильнее прежнего грянул гром, и весь свет в мотеле погас. Именно эту минуту выбрала для своего появления вторая машина и подняла шум, требуя спальню и гараж. Луис вышел снова, совершенно голый под плащом и босой. Его не было дольше, чем в первый раз, и он еще больше озлобился, потому что парочке понадобились свечи и ему пришлось сходить за ними в бар; к тому же, думаю, клиенты над ним посмеялись, над его заляпанными грязью ногами и плащом из довольно прозрачного пластика. Я совсем сползла с постели и лежала на циновке, завернувшись в упавшую на пол простыню; он толкнул меня ногой — я не поняла, ударил или приласкал, да он и сам, должно быть, не знал этого; как бы то ни было, я совершенно не обиделась на то, что он вытер об меня ноги. Раз я не отвечала, он отвернулся от меня и снова взялся за бутылку. Из его ворчания, перемежавшегося бульканьем в глотке, я разобрала: он заподозрил, что я пила, пока его не было, и теперь мертвецки пьяна.
Прошло какое-то время, мне показалось — совсем немного, потому что я совершенно ушла в себя, я чувствовала себя одинокой и униженной, и мне было от этого так спокойно на душе; лампы снова зажглись. Гроза удалялась, дождь перестал или утих; гром рокотал едва слышно. Я стряхнула оцепенение тела и духа, я хотела подняться до уровня моего любовника, вернуться в совместную жизнь. Проще сказать, я забралась к нему в постель и обняла его.
Он встретил меня неласково, хотя ни в чем не упрекнул. Я увидела, что он так же далек от меня, как перед тем далека была от него я, и что настолько же, насколько я погружалась в тихое самоуничижение, он провалился в бесчувствие опьянения, отгородившись им от любви и находя в нем некое блаженство. Напрасно я старалась растормошить его, напрасно словами и ласками пыталась восстановить утраченную связь. Кончилось тем, что он грубо схватил меня за руку, столкнул с постели, потом велел поживее одеваться и выметаться из комнаты, он сказал, что я могу отправляться куда мне будет угодно, могу, если мне захочется, отдаться первому встречному, могу делать все, что мне заблагорассудится, все, что взбредет в голову, лишь бы я убралась и оставила его в покое с его тростниковым пойлом. Думаю, он взбесился бы, если бы я не послушалась, потому что он, как многие наши мужчины, по натуре был сутенером, для них навязать вопреки всему свою волю — вопрос чести. Ну так вот: я одевалась как можно медленнее, стараясь все же не дразнить его; я надеялась, что какая-нибудь машина появится раньше, чем я соберусь, ему придется идти отпирать комнату, это рассеет его дурные мысли, и, вернувшись, он если и не помирится со мной, так хоть не прогонит. Зря старалась. Должно быть, дождь остудил пыл влюбленных, и, хотя час свиданий давно пробил, ни одна фара и ни один клаксон не пришли мне на помощь. К тому же вся моя одежда состояла из трусиков, лифчика, юбки и блузки почти без застежек, я была без чулок, потому что носила индейские сандалии, из-за ремешка между пальцами их можно надеть только на босу ногу, так что мне трудно было очень уж затягивать одевание. А он еще и подгонял меня между двумя глотками из почти опустевшей бутылки. Тогда я завернулась в шаль из грубой шерсти и, как побитая собачонка, вышла через ворота гаража.