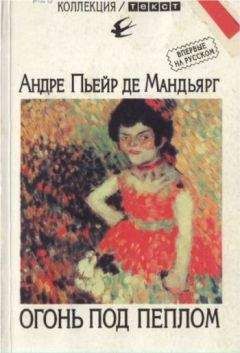Жан де Жюни продолжал все так же усердно трудиться, как будто молотил зерно или дробил камни, грубая размеренность работы не мешала его мыслям течь свободно. Он подумал, что только что вновь пережил (или, что почти то же самое, внутренним взором увидел) самый первый случай, удержавшийся в его памяти. Странная вещь — первое воспоминание, если подумать, оно не может не встревожить. У Жана де Жюни мелькнула (подсказанная, возможно, нежным оберегающим жестом старой Критиконы) мысль, что петля его существования вот-вот захлестнется («скользящая петля!», вспомнил он) и ему грозит смертельная опасность, стоит ему устать или сбиться с ритма. Мысль эта вскоре рассеялась, успев перед тем еще больше (если только это возможно) «иссушить» его затянувшийся любовный подвиг.
Позолоченный медный шар все так же ярко сверкал в солнечном луче, все так же мощно и размеренно ходила поясница Жана, поднимая и опуская цеп (или молот камнедробильщика). Он понимал, что вместо того, чтобы приблизиться к чувственному наслаждению, теперь от него удалялся, словно старый греческий пакетбот, явившийся поначалу в его бреднях, переменил курс и возвращался в порт, из которого вышел. И вместе с тем Жан де Жюни испытывал смутное удовольствие оттого, что не должен стремиться к наслаждению, приставать к наскучившему берегу. Он попытался воскресить страшное (уже не так пугавшее) воспоминание и снова, на этот раз по собственной воле, пережил в памяти случай на горной тропе. По мере того как он силился его воссоздать и ему представлялась повозка пьемонтцев и вместе упавшие в бездну волы, он испытывал странный восторг, чувствовал, хотя не мог объяснить это никакой разумной причиной, кроме хода качелей или маятника, как высоко, блаженно, солнечно возносится, и его поддерживает точно так же, как в детстве, помогая взобраться на стог или кучу камней, крепкая рука Нины Критиконы. Оттолкнувшись от несчастного случая, он, оставляя за собой ослепительный след, взлетал в небо своего детства, и на лике светила ясно проступали, как при двойном экспонировании, львиные черты его няни. Жан де Жюни узнавал ласковое выражение, с которым она обычно на него смотрела, давно не ощущал он такого волнения. Это и есть любовь? «Отец солнце…» — прошептал он в то мгновение, когда лицо старой няни полностью затмило огненный шар.
Так высоко он занесся, что, не нуждаясь в опоре, на секунду согнул руки и навалился девушке на грудь. Она открыла глаза и, увидев, как он далек от нее, позвала, как будто хотела вернуть: «Иди сюда, — сказала она ему. — Не слишком ли долгий путь ты проделал? Куда ты несешься, ты насмерть загонишь свою лошадку, бедную тварь. Остановись, иди ко мне. Спустись на землю, положи голову мне на плечо, отдохни. Ты так утомлен, и я тоже устала». Но он не слышал ее слов, не видел ее, хотя она была прямо перед его глазами. Он снова напряг руки, все его тело натянулось, застыло в полном бесчувствии, дух его полностью освободился из-под власти неотступной мысли о смерти, владевшей им постоянно, она не давала ему покоя, пока он не направил свои стопы к сомнительному приключению, в комнату в грязной гостинице, к гнусной постели. Он грезил наяву (возможно, пораженный столбняком), он высоко взмыл в чистое небо и продолжал подниматься к горячему доброму солнцу, которое вместе с тем было лицом Нины Критиконы, и он опирался на руку, которую она как прежде протянула ему. Девушка замолчала и снова закрыла глаза и продолжала терпеть, раз до него все равно было не докричаться. Хотя она, собственно, была орудием его восторга, он забыл о ней, отбросив в тень вместе с погибшей повозкой, и отныне его крестец упорно ходил взад и вперед лишь для того, чтобы все дальше, все выше уносить его во вновь обретенную ясную высь, в это небо, в это ослепительное сияние, где он ничего не боялся, только бы солнце не заходило. «Критикона, старушка Критикона, не бросай меня одного…» — тихонько твердил он, как засыпающее дитя.
Андре Пьейр де Мандьярг родился в Париже 14 марта 1909 года. По происхождению он наполовину нормандец, наполовину провансалец; его дед, коллекционер Поль Берар, был другом многих художников-импрессионистов. Возможно, именно семейному окружению Мандьярг обязан тем, что искусство заворожило его, заняло большое место в его жизни и творчестве — до такой степени, что некоторые новеллы воспринимаются, как настоящие картины.
Мечтательный подросток, которому скучно в школе, с учителями и «товарищами», Мандьярг к пятнадцати годам открывает для себя литературу, поэзию. «Я испортил глаза, читая тайком под партой то, что мне нравилось», — скажет он впоследствии. Какое-то время он увлекался археологией и хотя в конце концов отказался от мысли посвятить себя этому занятию, но сохранил влечение к этрусской культуре, к Италии.
Отрочество он провел в путешествиях. Он побывал везде в Европе, кое-где в Малой Азии. Позже он увидит Египет и Центральную Америку, где не совсем погибшего в нем археолога очаруют следы доколумбовой эпохи. Кроме того, он пишет стихи, которые останутся неизданными до 1961 года. Во время войны он находит себе убежище в Монте-Карло и начинает работать постоянно. В 1943-м он выпускает в свет первую часть «Мерзких лет», в 1946-м — «Хедеру, или Постоянство любви во время грезы». За ними последуют другие поэтические произведения — «Потрясающие нелепости» (1948), «Астианакс» (1956); очерки об изобразительных искусствах и современной литературе — «Чудища из Бомарзо» (1957) и «Бельведер» (1951); сборники новелл — «Черный музей» (1946), «Волчье солнце» (1951), «Огонь под пеплом» (1960). Роман подлиннее, «Мотоцикл» (1963) открывает широкой публике того, кого критик Эдмон Жалу после появления первых же книг признал «самым необычным писателем своего поколения».
Перевод H. Пономаревой.
«Исторический и критический словарь» Пьера Бейля (1647–1706), французского публициста и философа. — Примеч. пер.
«Да здравствует» (ит.).
«Смерть ему! (им!)» (фр.).
Мы — девушки, именуемые каменными, несчастные сестры, рабыни божества. Мы рождены под черным солнцем… (лат.).
Нагими вышли мы из чрева нашей великой матери и нагими возвращаемся туда (лат.).