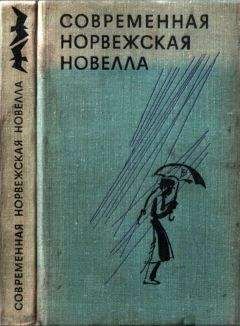Ну а потом Лисабет вернулась из города и уже сама могла рассказать, как ее там в больнице крутили и вертели и все такое. Ей, оказывается, и спину кололи, и в голову что-то впрыскивали, больно было, конечно, рассказывала Лисабет и смеялась. Но зато рука должна от этого поправиться.
Рука у нее болела и была по-прежнему кривой, но постепенно она должна поправиться — так в городе сказали. Во всяком случае, вязать Лисабет уже могла, как и раньше. Она вязала свитера и носки, пела песни и рассказывала про больницу.
Ей было семнадцать лет. А с танцев она шла всегда одна, и такая же, как пришла, видно, что не танцевала, — ну, и им же хуже, говорила она про парней. А потом, значит, начались эти приступы. Она целыми днями лежала и не хотела вставать, все лежит да лежит, и лицо у нее такое серое, ясно, что просто не в себе человек. И от нее слова нельзя добиться.
В лавке Арвида в Холу снова было о чем посудачить. Вы слышали про Лисабет? С ума сошла. Совсем сумасшедшая стала. С постели ее подняли, так она все равно ничего делать не хочет, спряталась и плачет.
Да, вот так-то. Ну а потом Лисабет опять поехала в больницу, потому что это лечение нужно было повторять. И теперь дело обстояло совсем уж скверно: если она и на этот раз не вылечится, то или помрет, или навек сумасшедшей останется — так говорили в лавке Арвида в Холу.
Но время шло, а ничего нового про Лисабет не было слышно, в лавке о ней уже не говорили, людей стали занимать другие вещи. Гюро, дочка Самуеля, приехала из города и пришла в молельню с накрашенными губами, а новый ленсман ничего не сделал, слова ей не сказал. Ох, грехи, грехи! Уж даже и в молельню сатана пробрался, да, в хорошенькое время мы живем, нечего сказать!
Но в один прекрасный день опять заговорили о Лисабет. Вы слышали про Лисабет? Ведь чудеса, да и только! У нее рука поправилась, она может двигать рукой и разгибать ее почти совсем, и боли прошли — иногда поколет немножко, и все. Лисабет было уже восемнадцать, и круглая она стала и гладкая, пока там в городе лежала в больнице да бездельничала. Теперь, когда она гуляла с подругами, парни толкали друг друга локтями и переглядывались, потому что Лисабет стала очень даже ничего. Хороша девка, черт побери, ребята, а? Но то, что она раньше была почти что сумасшедшая и с кривой рукой, помнили все, а ведь никогда не знаешь, что дальше будет. Вы не слышали? Она, говорят, все равно с ума сойдет.
Но время шло, и Лисабет вроде совсем поправилась. Она стала веселой и добродушной, и если речь заходила о руке, то у нее ответ был всегда наготове.
— Она у меня такая для того, чтобы мне быть хоть чуточку непохожей на других, — говорила она.
Она иногда ездила проверяться в больницу, и там ей очень нравилось. Еще бы, врачи и сестры вокруг нее толпятся, принимают, будто знаменитость какую, шутят с ней, чтобы настроение у нее было лучше.
Она была интересным случаем.
А дома она была всего лишь Лисабет. К истории с ее рукой мало-помалу как-то привыкли. И говорить о Лисабет перестали.
Так и шло до тех пор, пока… Да, тут трудно сказать, с чего все это началось. Но про Лисабет заговорили опять: так, немного, слово здесь, слово там. Ничего особенного, только иногда мимоходом кто скажет в лавке Арвида в Холу — слышали про Лисабет? Ездит себе в город и ездит, а ведь здоровехонька! А сама Лисабет смеялась и говорила, что с рукой теперь очень плохо стало — того и гляди, совсем поправится.
Тут уж ошибиться было нельзя: с ее поездками в город дело было нечисто. И Лисабет этого не отрицала. Когда ее спрашивали, что это она так спешит забрать почту, Лисабет только загадочно смеялась или краснела как маков цвет. А потом сразу садилась писать письмо.
И в один прекрасный день в лавке Арвида в Холу ее имя опять стали склонять на все лады. Нет, вы слышали? Лисабет-то, а? Ведь говорят — доктор!
На этот раз новость была как удар грома, не меньше. Доктор, представляете, настоящий доктор! Вот вам и Лисабет. Будто в романе каком, честное слово. И теперь где бы ни появилась Лисабет, ее сразу же окружали:
— Ну, как дела, Лисабет, тебя вроде можно поздравить?
— Как хотите, можете и поздравлять, — отвечала она.
— А что, Лисабет, говорят, он доктор, а?
— Говорят, — отвечала Лисабет и хитро улыбалась.
Нет, она вовсе не раздувала эту историю, Лисабет, и разговоры мало-помалу опять утихли. А у нее все на лице была написано: всякий раз она возвращалась из города красивая и веселая, прямо сияющая, шутит, поет, а то вдруг взгляд у нее сделается какой-то странный, будто она о другом думает. Кто-нибудь спросит в шутку:
— Ну как твоя любовь поживает?
— А ничего, потихоньку да полегоньку, — смеется Лисабет.
Но дома у себя она не хитрила, хотя и не все рассказывала. Как, найдется у нас место для гостя на пасху? Ну так, парень один. Да нет, ему еще несколько лет учиться, так что пока говорить не о чем. Он просто погостить приедет. Конечно, неплохо бы припасти в доме побольше еды, хотя он не хотел бы, чтобы из-за него были лишние заботы. Только все это должно остаться между ними, а то еще пойдут разговоры.
И она ведь была не какая-нибудь глупенькая, Лисабет, и должна была сообразить, что слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Да и родичи у нее были такие же люди, как все. И кроме того, нужно было взять у кого-то взаймы простыни для гостя, так Сири, жена Улаффена, имела ведь право поинтересоваться, для чего их берут. Вот так и пошло.
Лисабет к этому отнеслась спокойно, что правда, то правда. Она призналась, что он и в самом деле доктор, то есть пока еще только практикант. Но это совсем не важно, потому что он очень способный и уже хорошо себя показал.
В общем, все только об этом и говорили. Лисабет была прямо нарасхват.
— Как он выглядит, Лисабет?
— Так, ничего, увидите сами, когда приедет, — отвечала она.
Все просто помирали от любопытства. Ведь он мог оказаться и косым, и горбатым — а что, вполне возможно. Раз уж связался с Лисабет — сами понимаете!
Пасха приближалась. Родичи Лисабет раздобыли хорошего поросенка. Сама Лисабет стала прямо-таки красавицей. Она теперь охотнее рассказывала про своего доктора и про то, как у них все получилось — мало-помалу, когда она приезжала в больницу. Сияя от радости, она рассказывала, как он приходил и разговаривал с ней, приносил почитать книжки, и все такое.
К сожалению, вышло так, что как раз перед пасхой у этого доктора заболела мать и ему пришлось поехать к ней, поэтому он не смог навестить Лисабет и ее родичей. Лисабет как будто вовсе не огорчилась. И кроме того, он ведь просил ее приехать в город сразу после пасхи.
Сири получила свои простыни обратно. Она считала, что такой шум поднимать было ни к чему. Что до нее, то она бы сначала еще посмотрела, что это за парень, стоит ли с ним носиться. А Лисабет сказала — ну и что ж, зато поросенок при нас, мне больше достанется, значит. И она смеялась и напевала про себя и уплетала праздничный ужин за обе щеки.
Но вот опять пополз шепоток — вы слышали про Лисабет? Доктор-то ее — персона важная, так, видать, уже на попятный идет. Рановато эта девка нос задрала. С другой стороны, кое-кто видел, что Лисабет купила в городе шикарную материю, хочет сшить себе платье, знаете, такое, какие носят на всяких там балах. К чему ей такой шик, спрашиваете? А она собирается на вечер, который устраивает для нее и этого ее парня сам главный врач больницы!
Вообще-то, когда Лисабет спрашивали об этом, она отвечала уклончиво. Но она попросила Гьертруд Иголку, которая должна была шить ей платье по самому красивому фасону из модного журнала, чтобы оно было готово к такому-то числу, потому что ей нужно в город.
К Гьертруд Иголке зачастили гости. Заходили посидеть, кофейку попить. И посмотреть на платье Лисабет, пощупать материю, поругать фасон — ведь такое платье здесь носить не будешь, ни к чему оно.
Слухам о помолвке и вечере у главного врача верили долго, хотя родичи Лисабет на этот раз молчали как убитые. А если кто осторожно спрашивал саму Лисабет — зачем ей это платье, то она отвечала, что думает пойти в нем в цирк. В общем, отшучивалась да болтала разную ерунду. Рука у нее почти что совсем поправилась. И Лисабет цвела: ни у кого не было таких розовых щек и таких счастливых глаз и не было девчонки веселей ее. Всякие намеки ее будто не задевали, а в ответ на ехидные замечания вроде того, что доктор-то у нее, наверно, невидимка, она смеялась и говорила, что лучше жених-невидимка, чем совсем никакого. Потом она опять уехала в город.
Марта, ее мать, зашла как-то в лавку. По чистой случайности письмо, которое она получила от Лисабет, было у нее в кармане. В лавке полно народу — сидят на ящиках, толпятся у прилавка, вдыхают запах хлеба, и кофе, и серого мыла, и пряностей, и новых тканей, вбирают в себя недомолвки, намеки — новости. Марта знала, что у сомнений корни очень цепкие, как у сорной травы на пустыре.