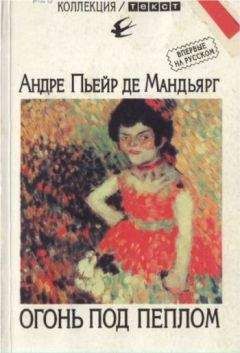Она редко позволяла убить для себя цыпленка и никогда не притрагивалась к мясу с бойни.
Со стороны наши разговоры показались бы пустыми. Однако мне самому не кажутся пошлыми те беседы, колыхавшиеся, словно паутинка от легчайшего ветерка, вместе с малейшими переменами настроения. Можно ли сказать, что ветер перебирал струны наших разговоров? Я любил их больше всего на свете и никогда не мог объясняться таким образом с собеседниками мужского пола; иногда мне удавалось это в обществе «милых прелестниц», но ни с кем я не чувствовал себя так свободно, как с Родогуной. Мы редко заговаривали о баране, разве что восхищались его красотой, и мне в голову бы не пришло заговорить о его кротости, хотя он был необыкновенно послушным. Я выказывал к нему величайшее уважение и на словах, и в своих поступках, зная, что доставляю этим удовольствие Родогуне и что обратное глубоко опечалило бы ее.
Теперь, с опозданием на три или четыре года, я открыл, что несу свою долю ответственности за развязку этой драмы. Не знаю почему, но я должен был вернуться на этот остров и, валяясь на куче тряпья, грезить наяву, пока в моем брюхе бурлит выпитое вино, чтобы понять наконец, какой ошибкой было внушить Родогуне уверенность. Уверенность в себе, доверие ко мне; доверие к небу, земле и волнам, в которые она осмеливалась зайти по колено. Недоверчивая, она прекрасно защищалась от людей, поскольку между их миром и ее собственным не было никакой связи, молчание и черные одежды укрывали ее надежнее монастырской стены. Моя вина (быть может) заключалась в том, что я нарушил это уединение и через предложенное мною примирение с одним человеком приблизил ее ко всем другим так, что она больше не могла вынести отчуждения и воинственно потребовала хоть каких-нибудь отношений, пусть даже враждебных, если дружеские невозможны.
Конечно, я должен был о ней позаботиться, должен был догадаться и предостеречь ее, когда она сказала мне, что скоро покажет им всем, кто она такая, хорошенько их проучит.
С каждым днем она делалась все более живой и непосредственной. И казалась мне все красивее — вероятно, поэтому я и не смог предотвратить несчастья. Как-то в воскресенье мы договорились встретиться в низине, на краю солончака. В страшной наготе синего неба яростно сверкало августовское солнце, ослепляя мои не защищенные очками глаза, и я старался почти не открывать их. В тени ряда гигантских тростников, высившихся гордо, словно стволы бамбука, показалась Родогуна; я узнал ее издали по осанке и походке (по-прежнему бесподобным), но ее окружало непривычное сияние, я не мог понять, откуда оно исходило. Вблизи я увидел, что она надела ожерелье из больших резных золотых шаров, ее серьги свисали почти до плеч, чья белизна была едва прикрыта маленькой кружевной блузкой, а на ее волосах была косынка с выложенными из блесток розами, достойная украсить самый пышный алтарь перуанской церкви. Кроме того, она повязала барану на шею красную ленту и додумалась позолотить ему рога.
Уже не помню, какой комплимент ее украшениям и наряду я сочинил, несмотря на удивление. Впрочем, она меня не слушала и была не столько веселой, сколько беспокойной и возбужденной. Я хотел спуститься вместе с ней к тростникам, прогуляться по ласкавшему взгляд зеленому коридору между пресной и соленой водой, но она отвергла мое предложение и устремилась прямо к сараям по пересекавшей солончаки земляной насыпи. Из-под ее ног взлетали большие черные бабочки, в полете отливавшие фиолетовым, и чертополохи у воды искрились алмазными подвесками кристалликов соли, которые прицепил к ним ветер. Следовавший за хозяйкой баран казался смущенным собственным великолепием (должно быть, ему мешала лента или позолота жгла кожу на лбу). Я немного отстал от них. Эта деревенская девка, нарядившаяся куртизанкой, напомнила мне любопытную статью из «Словаря» Бейля[2], предметом которой была любовь к козам, специфически латинское пристрастие, очень древнее и равно достойное осуждения с точки зрения моралистов и простаков. Итальянские солдаты, осаждавшие Лион в XVI веке, при герцоге де Немуре, привели с собой множество коз, «покрытых чепраками зеленого бархата с широкими золотыми галунами» и заменявших им подружек.
По словам д’Артаньяна, коз было около двух тысяч. Какой же стоял звон, если на них были колокольчики… Довольно об этом!
Перебирая в памяти давнее чтение, слегка опьянев от жары и слепящего света, я тащился далеко позади, когда Родогуна вышла на площадку, где рабочие играли в шары. Едва увидев ее с бараном, они (несомненно, это и было ожидаемым ею триумфом) бросили игру и побежали к ней, но так, как бегут за вором или убийцей. Каталонцы особенно разъярились, они оскорбляли мою подругу, как последнюю тварь, хуже, чем последнюю тварь.
Я заторопился. И все же мне не удалось вмешаться (и дать, как мне хотелось, доказательство моей храбрости…), потому что Манолен мгновенно утихомирил их, крикнув что-то для меня непонятное. Они подобрали свои куртки и ушли с площадки. Не взглянув на нас, не сказав нам ни слова, не сделав ни одного движения в нашу сторону, они отступили к таверне на берегу моря, где подавали тяжелое черное вино. Я знал эту хижину из кольев и сухих листьев, стоявшую среди песчаных отмелей, я время от времени заходил туда в субботу или воскресенье вечером выпить и послушать, как пьяные сардинцы пели песни своего края: бесконечно тянули монотонный речитатив, прерывая его пронзительными нотами, хлопали в такт, бессловесно гудели и заканчивали долгим жалобным стоном, раздиравшим темноту ночи. Я любил странный язык этих песен, смесь испанского и латыни, и мелодии, словно дошедшие из глубины веков и детства человечества.
Успокоить Родогуну, подумал я, но она молчала, мне кажется, она и не умела плакать. Я попытался помочь ей дать выход всему, что кипело в ней, — напрасный труд: она засмеялась, и мне стало страшно, потому что такой невеселый смех я слышал в часовне, две сумасшедшие целовались там под крестом, это было в Вольтерре, где мне разрешили посетить дом умалишенных. Она отказалась опереться на мою руку и, не позволив даже проводить ее, вместе со своим бараном пошла к дому.
В тот день солевары засиделись допоздна, выпивали и болтали. Я не доверял Манолену, но все же рассчитывал на него и, в надежде с ним встретиться, прогуливался у таверны, долго сидел под звездами на вершине маленькой дюны. Увы! Я никого не увидел и не услышал ни одной песни.
На обратном пути мне пришлось нелегко: луны не было, и я отчаянно барахтался, проваливаясь в ямы с водой, когда шел морем. Я до того устал, что на следующее утро отказался от купания. Во второй половине дня я собрался навестить Родогуну. Моя тревога (это любопытно, и я стыжусь трусливого оптимизма, к сожалению, свойственного мне) рассеялась вместе с темнотой, так что, не забыв вчерашней сцены, я уже не воспринимал ее трагически, и помню, что веселился, как дитя, пробуя брод.
Я держал над головой, чтобы не забрызгать, сверток с каменной солью, которую нес полизать барану, — это было его любимое лакомство.
Подойдя к дому Родогуны, я увидел, что дверь заперта и серое дерево этой двери залито кровью, словно прилавок мясника. Ставни окна (единственного), ворота овчарни вымазаны дегтем. Я стучал, звал — все тщетно, однако готов был поклясться, что дом не пустой. Я долго ждал, колотил в дверь и, наконец, отправился за помощью. Напрасно.
Я метался под солнцем как безумный и думаю, что раза два или три пересек остров от одного берега до другого, карабкаясь на скалы, продираясь сквозь колючие заросли, переходя вброд пруды и каналы. Рабочие притворялись, что слишком заняты и не могут мне ответить. Я видел лица, замкнутые так же крепко, как бедный дом моей подруги, и не находил никого, кто помог бы мне вышибить окровавленную дверь. Они объединились против меня, словно крестьяне против жандарма, их упрямое молчание отбрасывало меня — так мяч отскакивает от камня.
Только позже я узнал правду (и то не всю). Воображение дорисовало мне кое-какие черты этих жестоких людей, так и оставшихся неизвестными. Накрывшись простынями с намалеванным углем черепом, если это были сардинцы, или с открытыми лицами, если, как я склонен думать, каталонцы, жадные до женщин и ревнивые, они, подобрав ключи, отперли дверь, ведущую в хлев, и на ней не осталось следов взлома. Там, пока мадемуазель Родогуна спала (к неудовольствию клеветников, она лежала в своей девичьей постели), они, перерезав горло барану, без лишнего шума отрубили ему голову и унесли ее с собой, оставив тело коченеть на свежей, только вчера постеленной соломе. Эту голову с дерзко торчащими среди вздыбившейся шерсти выкрашенными рогами они прибили над дверью дома, так, чтобы кровь, стекая, пропитала дерево до самого порога. Вымазав зловещим дегтем ворота, они завершили картину преступления и оскорбления. И ночь укрыла их бегство.