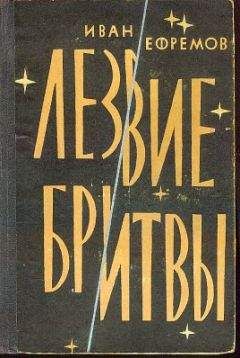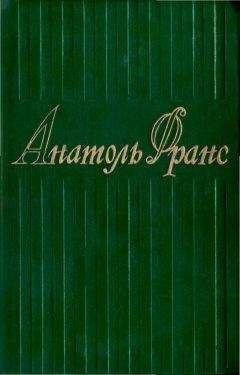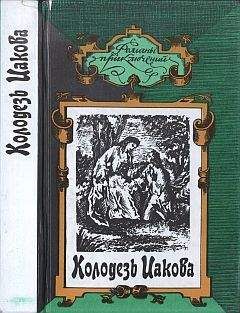Владимир Федоров
Восемь ночей тетки Лизаветы
Повесть в новеллах
Там, где родниковая речушка Чистый Колодезь впадает в Донец, на меловой круче непробудным сном спит дядька Топорок.
Трава зеленеет, а он спит. Дождь хлещет, а он спит. Желтые листья кружатся, а он спит. Белые мухи летают, а он спит. Отплотничал, отсапожничал, отсаперил, отбалагурил.
— А кто такой Топорок? — недоуменно пожмете плечами вы.
Вы что, дядьку Топорка не знали? Ай-яй-яй! Может, не слыхали, как он на фронт уезжал? В заплечном мешке — коржи, махорка, медная кружка, оселок, осколок зеркала, старая бритва и верный топор.
— Софоня, зачем тебе топор? — вздохнула жена.
— Гитлера брить, — усмехнулся. — Вострее бритвы.
— Чудишь! Береги медную кружку, — шепнула. — И… и голову!
— За голову не ручаюсь… — И многозначительно крякнул. — А кружка нас с тобой переживет. — Подмигнул. — Дуреха! В нее будут наркомовскую норму на фронте мне наливать.
Почти у всех провожающих баб на глазах слезы, а у дядьки Топорка балалайка в руках. Подгулял на прощанье. Как врежет, как зальется:
Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья…
Бабы заголосили.
Смекнул дядька Топорок: не та музыка. Приосанился, подкрутил усы. Как рявкнет:
Дело было под Полтавой,
Дело славное, друзья.
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра.
Проняло: кое-кто перестал голосить. Но тут вскипела подвыпившая Топориха:
— Ты что, идол окаянный, жену перед народом срамишь? Все люди как люди. А у меня — балалаечник.
Дядька Топорок и глазом не моргнул:
— Лизаветочка, успокойся. А я куда? Разве не на фронт? — Да как запоет:
Я ходил к матане летом,
А она ко мне зимой.
Я кормил ее конфетой.
А она меня лапшой…
Топориха уже не кипит, а пышет:
— Я тебе покажу матаню! Ах ты, охламон несчастный! Анчихрист! И откуда ты на мою голову свалился? Всю жисть своей балалайкой мне переворотил!
Тут уж не стерпел и Топорок. Даже усы у него встали торчком:
— Христа бога мать и сорок архангелов! Ты мою балалайку не трожь. Может, в ней моя душа спрятана. Буду на передовой народ веселить. Ясно? — И вдруг смачно поцеловал. — Прощай, Лизавета. Благодарствую за все доброе, а за недоброе… Бог простит.
— Софоня! — вырвалось у нее. И так кольнуло в груди, что свет пошатнулся. — Милый! На кого же ты меня покидаешь? — Припала щекой к его плечу и заголосила громче всех.
Не ведал тогда дядька Топорок, что будет, задыхаясь, ползти на брюхе по неоглядному Прохоровскому полю. Танки, как свечи, горят, а он ползет. Трава тлеет, а он ползет. Гимнастерка тлеет, а он ползет. Одно слово — сапер.
Спи на меловой круче у Чистого Колодезя и Донца, дядька Топорок. Каленый русский солдат, мастер на все руки, ярый матерщинник, неугомонный бабник, жизнелюб, неверный и верный муж тетки Лизаветы.
Тетка Лизавета терпеть не может, когда соседи называют ее бабой Лизой.
— Ну какая я им баба Лиза? Всю жисть была теткой Лизаветой — так и помру. Вот когда ты, Любаша, зовешь меня бабушкой Лизой — иное дело. Ох ты, моя касаточка, моя внученька!
Рядом с Топорихой лежит задумчивая внучка Любаша, которая собирается стать матерью. Платья ее, что огромные распашонки. А душа… Душа — в смятении. Надвигается что-то новое, пугающе-неведомое. Недаром говорят: самое страшное — ожидание. Ох…
— Как он там, мой правнучек? — тихонько спрашивает тетка Лизавета. — Не беспокоит?
Любаша грустно качает головой, а сама не сводит глаз со старой медной кружки на подоконнике.
— Бабушка, мне почему-то страшно. А вдруг мы оба… и я и он…
— Дурешка! — возмущается Топориха. — Выбрось страх из головы. Я вон сколько их произвела на свет! Мамка твоя, считай, восьмая. Ясно? Да если бы не голодуха, не война… Сколько у меня внуков было бы? Ого-го! Целый полк. А нынче-то ты у меня одна, Любашенька. Да не бойся. Вот когда я ждала на свет белый твою мамку, со мною в палате лежала жена военного. Бесстрашная молодка, я тебе скажу! «Выше голову, тетка Лизавета! — говорит. — Я уже отстрелялась!» А ты: «Страшно».
Любаша приехала в новый Чистый Колодезь из Белогорска. Решила родить в поселке. Поближе к природе. Жить без нее не может. И без бабушки Лизы. Да разве поймешь, где кончается природа и начинается бабушка Лиза? Попробуй их разорви! Тут в доме каждая старая вещь напоминает о прожитом, пахнет по-особому.
— Бабуня, признайся, — горячо шепчет Любаша, — в тебя многие были влюблены?
— В меня-то? — оживилась зарумянившаяся тетка Лизавета. — Целый хвост за мною бегал. Да я на этого замухрышку, балалаечника Софоню, и не глядела. Топорок и есть Топорок. Тьфу!.. Да за мною два сокола с трехрядками летали. И дело дошло у них до ножей. Пырнул один другого в грудь — тот и крикнуть не успел. Так и грохнулся в пыль. Ужас-то какой! Возле самых наших ворот. Батя-то нами гордился. Мною и сестричкой Настей. Не девки, а кровь с молоком. Кто бойчей всех пляшет? Пантелеймоновы дочки. Кто мешки ворочает? Пантелеймоновы дочки. Кто шутя бревна на плече таскает? Пантелеймоновы дочки. А тут… такой позор! Хоть вешайся! Хоть провались!
— И куда же?.. — Любаша не спускает с нее поблескивающих глаз. Только бы отвлечься от своих дум! Только бы отвлечься! — Куда, бабуня, ты провалилась?
— На чердак. Забилась в самый темный угол. — Вздохнула. — Но разве от бати схоронишься? Звал, звал. Молчу. Нашел, нащупал. Нюх, как у волка, и глаза по-волчьи горят. Ух, как он меня, бил! Как бил! До полусмерти. А я — ни слезинки. «Да где же у тебя слезы? В пятке, что ль?» Завыл, зарычал от ярости, а у самого щеки мокрые: «Лизанька, Лизавета, прости. — И погладил. — Вся в меня. Моя порода. Ну зачем ты меня так опозорила? Зачем?»
— А ты-то при чем? — вырвалось у потрясенной Любаши. — Ты?..
— Пойди докажи ему! Эх, Любаша, Любаша. Его тоже понять можно. Красавец, богатырь, а всю жизнь не везло. Прослышал: в Сибири земли много. Повез нас туда. Приезжаем. Где же эта тайга, про которую столько поют? Ни деревца. Голая степь. Жарища. Все сгорело. Отец загнал все вещи, чтобы только живыми оттуда выбраться. Дай бог ноги! Вот тебе и Сибирь-матушка! Это теперь туда народ, слыхать, прет. Вон каких чудес понастроили! А тогда… Мачехой она нам стала, мачехой. А ты говоришь. Моя мама всю жизнь отца пилила: «Сгорела твоя земелька! Сгорела!»
— Ничего не понимаю, — шепчет Любаша. — То бьет, то жалеет. Нет, на мой характер…
— Молчи! Такой бешеный был. А вот Топорок подобрал к нему ключик. И знаешь, на что батя клюнул? А?
— На что, бабушка?
— Да на его проклятущую балалайку. — Тетка Лизавета вздрагивает от возмущения, словно жив не только Топорок, но и ее вспыльчивый, своенравный отец, — Помню, на масленицу как заиграет, как запоет Софоня:
Уберу свои сани коврами,
В гривы конские ленты вплету…
А сам все зырк да зырк. На меня, на меня… Ну, я-то, конечно, ни рыдать, ни убегать с ним не собиралась. Ах, ты при бате, подлец, меня срамить? Так получай! Как ударю в пол каблучками, как зальюсь:
Балалайка о трех струн,
Балалаечник хвастун!..
— Бабуня, как же ты вышла за него, если не любила? — недоумевает внучка. — Как?
— Любовь зла: полюбишь и козла, а привычка — горю затычка, — тяжело вздыхает. — Долгая история. Спать, милая, спать. Завтра…
— Ну расскажи! — нетерпеливо просит Любаша. — Умоляю.
— Сказано: завтра. — Она неумолима. Вот уж и вправду отцовская порода. — Завтра на ночь глядя. Перед сном.
Никак не поймешь, где у этих стариков кончается плохое и начинается хорошее. Удивительно размашистые люди! Что ж, придется ждать до завтрашней ночи. Ах, если бы бабушка знала, что и Любаше не спится. Но зачем ее беспокоить?
А со стены из-под цветастого полотенца глядят на внучку молодые Топорок и Топориха.
— Бабушка, рассказывай.
— Ой, внученька, спать охота. Глаза слипаются.
— Ну расскажи! Так нечестно. Ты же обещала.
Тетка Лизавета прикрывает ладонью невольный зевок:
— Так, на чем, бишь, мы остановились?
— На нем. На твоем Топорке.
— Тьфу, окаянный! — Сон с ее лица как рукой сияло. — Чтоб ему… чтоб ему… — И вдруг смягчается: — Земля пухом. Сколько он, изверг полосатый, меня помучил! А ведь талант. Ничего не скажешь: талант. Артист! И меня приворожил своей трехстрункой. Хочу вскочить, гордо выйти из хаты и… не могу. Словно он, подлец, медом ту табуретку намазал, и я прилипла, что муха. Чую: все, крышка! Прощай, моя девичья воля!
— И как же вы назвали своего первенца? — неожиданно спрашивает Любаша. А в голове свое. Трудно оторваться от тайных дум, что гложат душу. Ой как трудно! Кто у нее родится? И родится ли?