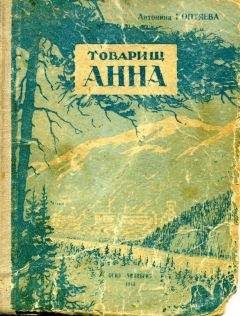Светленькая девочка с голыми ножками, с ямочками на щеках заботливо оглядела мать и сказала, недовольная ею:
— Не люблю я тебя в этих чёрных штанах. Совсем даже не подходит.
— Что не подходит, Маринка?
— Штаны эти. Прямо стыдно!
— Сты-ыдно? — тёплым грудным голосом переспросила Анна, расчёсывая перед зеркалом свои длинные чёрные волосы. — Чего бы тебе стыдно, маленькая дурочка?
Маринка покраснела, нерешительно отняла руку от кармана брюк, держась за который, она теребила мать.
— Это тебе стыдно, раз ты обзываешься, — сказала она, отодвигаясь от матери, но тут же подхватывая ладошкой чистые, мягкие пряди её волос. — Разве это беда, что я маленькая?
— Конечно не беда, — совсем серьёзно, но с ярким, смешливым блеском в глазах согласилась Анна, рассматривая в зеркале и свою склонённую набок голову и хмурое, с надутыми губами лицо дочери.
Воткнув последнюю шпильку, она оправила воротник тёмной блузы и, раскинув руки, весело обернулась к Маринке:
— Ну, модница моя!
— Я прямо боюсь тебя, — лукаво говорила Марина, болтая ногами, тиская ручонками шею матери.
Она любила всё её большое, крепкое тело, ещё не утратив чувства младенческой привязанности к её ласковым рукам и тёплой груди.
Она трогала её мохнатые чёрные ресницы, влажные зубы, открытые улыбкой, гладила обеими ладошками её смуглые молодые щёки и, наконец, со вздохом спросила:
— Надолго опять уедешь? Ты бы отвела меня в садик сама. Надоело мне с Клавдией ходить. С ней ничего нельзя. Противная такая!
— Маринка... — укоризненно начала было Анна, но девочка закрыла её рот ладонью и сказала негромко, быстро, вся искрясь от смеха:
— Мои мальчишки говорят, что у неё нос, как китайцев ножик. Знаешь? Такой домашний ножик. Юрка его спрятал под ступенькой.
Анна поставила Марину на стул и, посматривая на её приподнятый, немножко облупившийся носик, сказала строго:
— Если ты будешь бегать без меня с мальчишками, я скажу Клавдии, и она будет закрывать тебя на замок. Поняла?
— Поняла, — сказала Маринка, присмирев. — Только это совсем, совсем хорошие мальчишки. Они не дерутся и не ругаются. А ножик мы не украли, он сам выпал из корзины.
— Смотри, — пригрозила ещё Анна.
Она наклонилась к дочери, поцеловала её выпуклый, очень белый под чолкой лобик. — Мне ведь не хочется привязывать тебя, как маленького глупого пёсика, но я боюсь, что ты совсем избегаешься. Огородника нельзя обижать. Ему этот нож для работы нужен. Он ищет его, наверно.
— Ищет, — со вздохом подхватила Марина и Настороженно прислушалась к тому, как в коридоре прошлёпали по крашеным половицам плоские, без каблуков подошвы и как, приближаясь, затерялись они на ковровой дорожке.
Тонкая Клавдия вошла в щель между половинками тёмной портьеры, даже не колыхнув ими, и остановилась у порога, заметно кривобокая в своём длинном синем платье и сером фартуке. Чёрные глазки её так и светились из-под косо приспущенных тонких век.
— Мариночке пора идти, Анна Сергеевна, — сказала она, изобразив на своём лице самую добрую улыбку. — Такая миленькая девочка, такая умненькая, а прямо согрешила я с ней... Никакого сладу нет.
Марина, не ожидавшая такого оборота, нахмурилась тревожно взглянула на мать.
— Что ещё? — спросила Анна.
— Новую ленту, которую Андрей Никитич купил, она собачонке какой-то паршивой привязала, та и убежала...
— Правда убежала, — торопливо перебила Марина, — такая бедная-разбедная собачонка. Она обрадовалась, что с бантиком, даже не оглянулась ни разу.
— Будешь теперь ходить без банта, — решила Анна. — Ступай, да не шали. Чтобы таких историй, как с ножом, больше не было.
— Мы отдадим, — весело пообещала Маринка, пытаясь, так же как Клавдия, пройти между драпировками, которые почему-то всегда мешали ей.
Анна посмотрела вслед дочери, вырвала из блокнота листок бумаги, присела к столу.
«Андрей! Четыре дня без тебя, как четыре года, — написала она крупным, твёрдым почерком, — Сегодня выдали со склада последний мешок муки. А парохода всё нет и нет! Отправляюсь сейчас в обычный объезд. Приедешь — обязательно поговори с Маринкой: она опять озорничает с мальчишками. Целую Анна».
Анна положила записку в ящик стола в кабинете Андрея, взяла плащ-пыльник и, поскрипывая сапожками, прошла через столовую на террасу. Дом стоял на взгорье. Выйдя на террасу, Анна окинула взглядом просторную долину прииска. Голая гора, как сказочный дракон, лежала на северо-западе. Сморщенная массивная спина каменного чудовища была угрюмого, серого цвета. Внизу темнел лес, и в этом сине-зелёном лесу покоились лапы и вытянутая голова дракона. С юга поднимались одинокие скалистые горы, ступенчатые, круто обломанные бурые и голубые нагромождения дикого камня.
В углу, возле террасы, стояла водосточная бочка, наполненная до краёв недавним ливнем. Два воробья сидели на её верхнем, косо набитом деревянном обруче, трепеща взъерошенными перышками: они пили, поклёвывая ослепительно дробящееся отражение солнца.
— Весна, — промолвила Анна, с усилием отрывая взгляд от дрожащего на воде солнечного блеска.
Только сейчас ощутила она всю прелесть весны: и этот солнечный свет и блеск, и оживление по-весеннему взъерошенных птиц, и запахи молодой травы и земли, уже омытых первым дождём, обильным и тёплым. И от неожиданности этого радостного ощущения у Анны даже на сердце защемило, защемило так волнующе любовно ко всему окружающему — к Андрею, к Маринке, родное тепло которой она всё ещё чувствовала всем своим существом, — что у неё даже закружилась голова.
— Этого ещё недоставало! — вслух произнесла Анна, глядя прямо перед собою широко открытыми, счастливыми, затуманенными глазами. — Взять да расплакаться ещё или в обморок упасть!
Она посмеивалась над своей неожиданной слабостью, но слабость от этого не проходила, и только тогда Анна поняла в чём дело: она была голодна. Здоровая, сильная женщина она жила все последние дни «на кусочке», отделяя ещё от своего пайка для дочери.
«Ничего, скоро придёт пароход, и всё пойдёт по-хорошему», — подумала она и обернулась в сторону дорожки, сбегавшей вниз мимо длинных бараков и крохотных избушек, окружённых свежими плетнями.
Конюх Иван Ковба, и летом ходивший в бараньем полушубке, в стёганой шапке с одним меховым ухом, вёл лошадь. Серый Хунхуз[1], широкогрудый и злой монгол, с короткой стриженой гривкой, с горячими, хитрыми глазами, степенно вышагивал за стариком. Густая обычно блестящая шерсть лошади, начинала космато сваливаться на подтянутых боках.
«Перепал! — подумала Анна. — Диковатый, зато и в воду и в грязь идёт смело».
— Здравствуй, Анна Сергеевна, — приветствовал её Ковба и, по лицу его, дремуче заросшему каштаново-седой бородой, прошло неясное движение улыбки.
— Здравствуй, Ковба, — ответила Анна.
— Ты ему поводьев-то не давай, — доброжелательно посоветовал Ковба, глядя, как она, придерживаясь за луку, подпрыгивала на одной ноге за неспокойно завертевшейся лошадью. — Смотри, кабы зубами не хватил. Лукавый холера! Однако и он присмирел на одном-то сенце. Ишь, какой шершавый стал! Теперь его только овёс отмоет.
— Чего же ты не принесёшь шапку? — сказала Анна, легко сев в седло. — Клавдия обещала починить.
— Чего её чинить? Теперь лето. Оторванным ухом я Хунхуза совещу: начнёт меня, хватать, а я ему шапку-то к носу: кто, мол, это сделал? Чья, мол, это работа?
— И понимает?
— А ты как думаешь? Знамо, понимает, только выразить не может. Зря ведь это ему разбойную-то кличку дали: он попросту озорной, баловень. Как дитё, сам края не знает. Ему игра, а мне, конечно, накладно.
Анна засмеялась:
— Пожалуй, что так!
«Вот сообразили же насадить тополей! — сказала она себе с укоризной, проезжая по шоссе мимо молодого парка. — И какой это умник придумал, что картошка здесь не будет расти? На юге сумели её вырастить, а нам, на севере, тем более надо», — Анна ещё раз оглянулась на тополя.
Прошедший дождь оживил деревья. Осыпав золотистую чешую, разорвались на них тугие почки, и угловатые липкие листики радостно и плотно завесили ещё недавно прозрачный лесок. Нет, и тополя хороши: совсем другой вид стал у посёлка.
Эта молодая зелень вызвала у Анны смутное, но милое воспоминание о старых огромных берёзах, увешанных бледнозелёным весенним пухом, о солнечно-жёлтых цыплятах, заблудившихся в красноватом хворосте. Анна даже ощутила снова вяжущий вкус какой-то разжёванной веточки, но неожиданно для самой себя сказала:
— Нет, с каждым годом всё лучше!