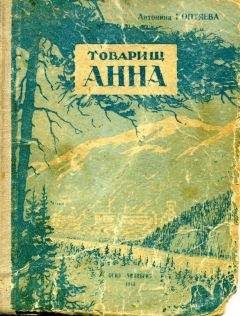— Да, врач — это я, — сказала Валентина и, добавив: — Саенко, — протянула руку.
— Будем знакомы, — проговорила Анна и, опять почему-то волнуясь, краснея, обеими тёплыми руками взяла и сжала протянутую ей руку. — Это хорошо, что вы такая молодая. Здесь нужны молодые. Да... — спохватилась она, не в силах отделаться от неясного беспокойства. — Моя фамилия — Лаврентьева, я директор Светлинского управления, — она взглянула в глаза Валентины, и вдруг ей показалось, что весь этот караван судов, так долго и нетерпеливо ожидаемый, привёз сюда только одну эту женщину.
По каменистой крутизне, по кустикам брусники, покрытым гроздьями крохотных бело-розовых цветочков, инженеры поднялись на вершину Долгой горы. Ветер тянул поверху, обдувал рыжую пыль с отвалов разведочных канав. Северовосточный, он тянул с далёких берегов Охотского моря, вольно пролетая по гольцовым горным хребтам. Дыхание его было сильно и чисто, только там, где стлались по камням согретые солнцем пелены тимьяна — богородской травы — да курчавились молодые перья зверобоя, ветер отдавал тёплым, густым запахом ладана.
Виктор Ветлугин снял шляпу, вытер платком лоб и сильную шею. Смуглое от крепкого загара лицо его всё раскраснелось.
— Странно, — сказал он и улыбнулся мечтательно, — когда я поднимаюсь на такую кручу, мне не хватает дыхания, но безумно хочется петь. И странно то, что я же никогда не пою, не умею петь.
— А вы покричите, — шутливо предложил Андрей Подосёнов, муж Анны Лаврентьевой, и сам первый крикнул: — О-го-го-го-го-о!
Далеко по ущельям, по мрачным ельникам, пугая стремительных коз и диких баранов, рассыпалось отголосками: «Го-го-го-о!»
— Ага, значит, и на вас действует! — сияя влажными тёмнокарими навыкате глазами, — сказал Ветлугин. — Мне, знаете, с детства нравилось бывать на высоте... Я лазил на крыши, на сопки, воображал себя Манфредом, Демоном... Словом, страшно одиноким и страшно сильным, гордым. Позднее мечтал о самолёте, — Ветлугин помолчал, добавил задумчиво: — рвался в небеса, а работать пошёл под землю.
Андрей ничего не ответил. Тонкослоистые сланцы неровной каменной щёткой выперли на крутом склоне, выщербленные ветрами, рассыпались в звонкую щебёнку. Андрей шёл, глядел на эту щебёнку под ногами, но думал о словах Ветлугина.
— У меня было суровое детство, — сказал он, наконец, точно вынужденный к этому откровенностью товарища. — Мне некогда было мечтать. Я потерял родных и начал жить самостоятельно с девяти лет. Добывал кротов, сусликов, нанимался к богатым бурятам... Вы вот мальчиком воображали себя Манфредом, а я только под тридцать лет узнал (и то у Писарева), что Манфред — это один из героев Байрона, а до этого был также способен спутать самого Байрона хоть с Бироном, хоть с бароном. Мне ведь было уже четырнадцать лет, когда я решил учиться, сделал себе котомку и ушёл из степей в тайгу, в город. Один. Пешком. За пятьсот вёрст. Зимой учился, а летом лотошничал на приисках.
— Здорово! — сказал Ветлугин. — Этакий вы упорный! Значит, это вас там, у бурятов... — он сделал неопределённый жест перед своим лицом и сконфузился, залился румянцем.
— Оспа-то? — спокойно переспросил Андрей. Он знал, что лёгкие рябинки на лице не портили его, знал, что это не мешало ему нравиться женщинам, и не понял поэтому смущения Ветлугина. — Да, это там, в Монголии. Но она могла поклевать меня, где угодно: мои родители не признавали никаких прививок.
Инженеры подошли к канавам, избороздившим вершину горы, и выражение их лиц сразу изменилось: Ветлугин построжел, движения Андрея стали порывистее и беспокойнее.
— Имейте в виду, что мы сейчас находимся в тупике, — сказал Ветлугин. — Наш прииск уже в этом году задыхается от недостатка разведанных площадей.
— Это у меня не только в виду, но вот где, — возразил Андрей, похлопав себя по шее. — Вы корите нас, геологов, за плохую работу, а у нас нет средств. Мы тоже задыхаемся, — Андрей сел на край канавы, опёрся в борта руками, повисел, выгнув плечи, и спрыгнул вниз. — Нам надо создать запасы по рудным месторождениям не менее чем на три года, — выкрикивал он уже снизу из тесной траншеи, — по россыпям на два года, а отпущено всего восемьдесят тысяч! Этого не хватит на зарплату сотрудникам. — Андрей отряхнул пыль с ладоней, поднял голову. Над ним голубела узкая, но бездонная глубина, загороженная с одного края рослой фигурой Ветлугина.
Ветлугин тоже приготовился спрыгнуть и спрыгнул, обрушив за собой поток мелкой земли.
— Вот, чорт, прямо за воротник насыпалось! — заворчал он, поёживаясь. — Нарыли могилы какие-то. — Он осмотрел круто срезанную стенку забоя и сказал: — Средств мало, а роете основательно. Всё-таки я бы на вашем месте переключился на россыпи, честное слово. Ведь вот: нет же ничего.
— Наднях здесь обнаружили выход жилки сантиметров в десять, местами в пятнадцать, а сейчас верно пропала, — ответил Андрей, хмуро покусывая губы.
Он отбросил кусок кварца, тронутый ржавчиной оруденелости, и прямо посмотрел в широко расставленные глаза Ветлугина.
— Вместе того, чтобы советовать мне переключиться, вы бы лучше настаивали в тресте на отпуске средств.
— В тресте много противников вашей Долгой горы, — сказал Ветлугин. — Откровенно говоря, трудно возражать против, временного закрытия этих работ.
Андрей побледнел так, точно его ударили:
— Это будет страшная ошибка...
— А что слышно из Главзолото? — прервав его, спросил Ветлугин.
— Приезжал представитель, посмотрел, составили проект разведочных работ, составили объяснительную записку, — вы же знаете... Распоряжение продолжать работы дано, а о средствах ни слова. Ответственности боятся, что ли? Правда, сейчас, после процессов этих мерзавцев-вредителей, все стали очень уж осторожны...
— Да-а, — снова перебивая Андрея, сказал Ветлугин, — после такого потрясения трудно верить себе самому. Нет, это у меня не укладывается. Я этого не понимаю.
— А чего же тут не понимать? — со злостью возразил Андрей и, прислонившись к стене канавы, чтобы пропустить рабочего с обушком, добавил: — Сколько теперь придётся потратить сил на исправление того, что они успели напортить! И все, вплоть до безграмотного сторожа, это поняли, а вы: «Я этого не понимаю! У меня не укладывается!» Экий, подумаешь, ребёночек!
Четыре пары рук вскидывали вверх «бабу» — трёхпудовый листвяничный чурбан; четыре вздоха сливались с глухим, тяжёлым ударом. Конюх погонял лошадь, припряженную к оглобле-водилу, и круглая железная площадка оседала всё ниже, вращаясь на своей ноге-трубе, которая разбуривала землю острыми зубьями стального «башмака». Издали тесная группа рабочих на площадке напоминала деревянную кустарную игрушку.
Выше по ключу, протекавшему у подножья Долгой горы, работал на разведке россыпи второй бур, и там, в редком леске, суетилась такая же группа людей и так же туманился высокий костёр-дымокур.
У самой разведочной линии Андрей вынул из сумки блокнот и начал записывать, поглядывая на цифры, черневшие на затёсах столбов. Ветлугин шёл за Андреем.
Фетровая круглая шляпа, сдвинутая на затылок, и пёстрая клетчатая ковбойка, перехваченная широким поясом, придавали ему живописно-щеголеватый вид, но высокие сапоги его с ремешками и пряжками были «сроду» не чищены, и дорогие суконные брюки прожелтели от глины.
Смотритель разведок встретил их у бура с цилиндром пробной желонки в руках. Лицо у него было тёмное, плоское, почти шестиугольное. Узкие щелки глаз едва светились.
— Что с тобой, товарищ Чулков? — удивлённо спросил Андрей, угадывая его только по одежде и по лёгкой в движениях полной фигуре.
Чулков конфузливо махнул рукой:
— Разрешение продовольственного вопроса. Гнус поднялся — по сырым местам звоном звенит. Я всё время охотой промышлял, так ничего — при ходьбе не так накусывали, а вчера сходил с удочками, посидел на бережку, и всё лицо под одну опухоль слилось. Обратно по тропочке чуть не ощупью шёл.
— А рыбы принесли? — заинтересовался Ветлугин.
— Принёс, как же? И хайрюзов и ленков. Полмешка нахватал. Мы ведь вторую неделю целиком на самоснабжении. Как орочены, без хлеба, на одном мясе живём. Теперь дождались! Только что звонили по телефону, что пароход к базе подходит. Парнишка прибегал, сказывал. Теперь оживём. Без хлебушка соскучились.
— Дождались, — радостно отозвался Андрей. — Нам ещё вчера на Раздольном сообщили, что сегодня ожидают.
Чулков взглянул в лицо Андрея, худощавое, загорелое, с темными глазами и твёрдо очерченным ртом и спросил:
— А вас, видать, гнус не трогает?
— Едят вовсю, только я не опухаю.
— Значит, крепкий, а я вот нежный. Тело у меня такое: чуть что и заболит, и заболит. Я уж теперь решил деготком мазаться. Гнус его очень не уважает. — Чулков сам привернул желонку к тонкой стальной штанге и встал у площадки, глядя, как навёртывались остальные штанги, как они опускались в трубу, подхватываемые штанговыми ключами. — Сейчас пробу возьмём, сами посмотрите, — говорил он, не оборачиваясь к инженерам. — На четвёртой линии тоже хорошее золото обнаружено.