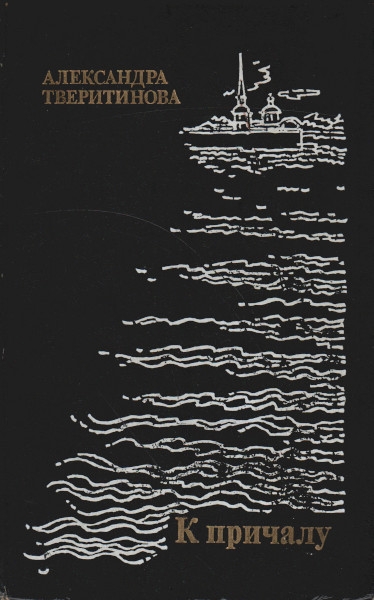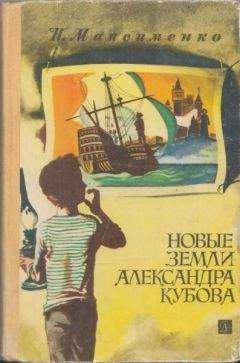только очень.
— Тем и хороша. Ну, спите.
— Буду.
Виталий Витальевич уснул, а я долго не засыпала и все смотрела на него. Смотрела с тайным любопытством, которое я почему-то испытываю ко всем спящим, словно они знают нечто такое, что скрыто от меня навсегда.
Поезд мчался сквозь ночь.
Я засыпала, и лицо спящего Виталия Витальевича, тающее, становилось лицом Вадима, и я смотрела уже на отрешенное лицо Вадима и знала, что сон — этот маг и волшебник — отнял его у меня, заставил забыть обо мне. Я жадно, даже с некоторым страхом смотрела на спящего Вадима.
Я смотрела на него жадно, веря, что вижу Вадима, и в то же время понимала, что это сон. В какое-то мгновение мне показалось, что я вот-вот пойму что-то очень важное для нас обоих. И тут меня охватило тихое чувство счастья. Затаив дыхание, я осторожно приближалась к нему, протянула руку, чтобы прикоснуться к его виску, погладить волосы, и я проснулась. За окном было черно, завывал ветер. Огоньки, то далекие, то близкие, пробегали мимо.
И снова день. Взглянула на часы — первый час. Купе залито солнцем. Я закрыла глаза. Я не хотела возвращаться в явь. Лежала с закрытыми глазами и слушала, как внизу мои спутники накрывают на стол.
Виталий Витальевич разлил водку в кружечки и в единственную рюмку, поделив поровну, и рюмку поставил мне.
— Путь вам добрый, Марина, и «Vive la France!» Пусть она здравствует, Франция. Хорошая страна, — и три кружечки сдвинулись и легонько стукнулись о мою рюмку.
Я отпила глоток, и Вера Иннокентьевна протянула мне на ломтике черного хлеба кружок холодной картошки и кружок крутого яйца сверху. Было это вкусно, и от водки по всему телу разливалось тепло.
— Ко многому придется привыкать, — проговорил Виталий Витальевич. Лицо его строго и немного задумчиво. — Да и встреча с Россией, возможно, получится совсем не такой, как ожидали. Как, впрочем, бывает и с другими встречами, в особенности, когда очень ждешь... Не просто все это, совсем не так просто, как кажется. Но это между прочим.
Это, по-видимому, не между прочим, а главное, что он хотел сказать мне. И я благодарна ему за его доброе и бережное отношение к наболевшему.
— Ничего, Марина, все будет просто, — сказала Мария Сергеевна. Она сердито взглянула на мужа. — Будете работать и жить, как должно жить человеку. И вот увидите, пройдет немного времени, и вы почувствуете что-то такое, что станет для вас самым важным, без чего просто не сможете.
— Наверно.
— Впереди у вас длинный путь, Мариночка, — сказала Вера Иннокентьевна.
— И всего еще будет, — Мария Сергеевна улыбнулась.
— И счастья целыми охапками, — проговорила Вера Иннокентьевна и положила мне на блюдечко пирожок и еще бутерброд с кружочком картошки и крутого яйца.
Что-то в ней уютное, в этой женщине. Лицо простое, серые глаза, серые волосы зачесаны по-русски — на прямой пробор и заложены на затылке жиденьким узелком. Глаза чуть выцвели, но когда улыбается, они у нее блестят ярко и живо. И дочь, сероглазая тоже, ладно скроенная Мария, с крупным, красиво очерченным ртом, в ситцевом в голубую полоску платье, оттеняющем ее слегка загорелую шею, лицо, руки.
Я буду часто вспоминать вас, случайные друзья, я не смогу забыть вас.
— Что до охапок, будет видно, а хорошие люди, дружба, это — непременно, — говорит Виталий Витальевич. — Будут интересные встречи, хорошие книги, театр, музыка. Поездки по России... Не так уж и мало, а?
— Да, не так уж.
— России ведь не знаете. Совсем не знаете России. Вот Заонежье, скажем. Есть такая сторона, моя родина. Поди, и не слыхали даже?
— Нет.
— Гранитная. И озер дай боже. Да не только в этом красота наша. В плотницком искусстве красота. Дома нас рубят без гвоздей. И церкви рублены. У меня дед плотник, Марина. И прадед, и пра-прадед — плотник. Посмотрели бы наши избы. Все в кружевах, как в полушалках. Деревянных кружевах. Видели когда-нибудь?
— Видела. В «Москве — Сокольники».
Они переглянулись по-доброму.
А я вспомнила недавнее, и, конечно, спустя две минуты опять стало тяжело на душе.
— Это искусство особое. Для этого особый дар нужен.
Он выплеснул из моей рюмки недопитую водку, придвинул к себе бутылку с коньяком.
— Ну-тко, французский мартель под русский пирожок, — и достал из кармана ножичек с искристой перламутровой отделкой, ногтем подцепил штопор, не спеша вытащил пробку, налил в рюмку и в кружечки. «За французских, черт побери, ребят!» И Мария Сергеевна казала: «С превеликим! Славный малый, этот ваш Жано. Трудно ему было в Маутхаузене!» Я сказала, сейчас все в порядке. Жано рвется в СССР, любит Советский союз. «И русскую девушку», — сказал Виталий Витальевич, поглядывая на Марию Сергеевну и на меня. «Разве так?» Он улыбнулся. Так, сказала я, глядя на него, и улыбнулась тоже. И Мария Сергеевна сказала, что Жано пригласят в СССР, что я встречусь с ним. А я подумала, пусть ее лучше не будет, этой встречи. Ни этой, ни той, ни другой. Пусть ничто не возвращает к тому, чему уже не бывать.
В памяти возник октябрьский день, грустный золотистый день октября сорок четвертого. Небо с металлическим оттенком и кровавый закат над Мон-Валериен. Толпа у «Стены Мертвых». Тишина. Тишина, как в океане, после бури. Как в бескрайней пустыне. Только падают с трибуны слова. Слова, слова, слова... Слова — боль, слова — кровь, слова — смерть.
Мать Луи. Я стою рядом. Она в черном.
Вся в черном. Смотрит напряженным взглядом, и рука у нее чуть-чуть дрожит. Я посматриваю сбоку на ее изящный профиль под траурной вуалью и вижу, как вздрагивают ноздри ее тонкого с чуть намечающейся, как у Луи, горбинкой носа.
Мать Луи в глубоком трауре.
Она не плачет.
Я знаю, напрягает весь остаток своих сил, чтобы не плакать.
Она повернула ко мне лицо, улыбнулась мне сквозь слезы.
Она все-таки плакала.
— ...Париж в первые дни после Освобождения? Непривычный. Строгий и в то же время горестно-нежный, как человек, переживший непоправимую душевную утрату. Или вот: