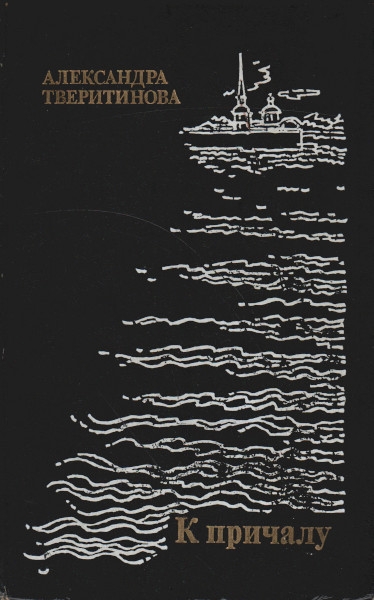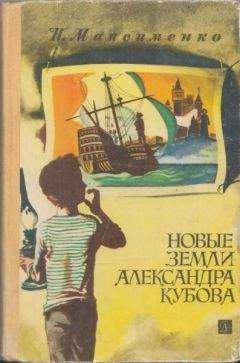Поезд стоит. В купе пусто.
Откинулась на подушку. Мне снился Вадим. Я видела его смутно, но с таким ощущением душевной близости, какую никогда еще не испытывала. Он улыбался. Непривычно застенчиво на его замкнутом лице светилась улыбка.
— Справишься, Мариш?
— Ты не думал, что такое мне будет под силу. Ручаюсь, ты думал, мне будет не под силу.
— Под силу, раз надо. Как-нибудь справишься, Марина. Время свое сделает.
— Конечно.
Я потерла ладонями лицо, выглянула в окно: «Рязань». Выскочила на перрон. Ветер хлестнул по лицу, облепил платьишко. Над деревянной лестницей написано: «Выход в город».
Площадь снежная, укатанная блестит на холодном солнце, будто смазанная маслом. Узкие тротуары окаймленные деревьями. Белые крыши. Поблескивают на зимнем солнце золотые маковки церквей.
Рязань... «Рязанская мужская гимназия»... Где-то она там?
«...Мещера... Рязанские леса...»; «Будто по Мещере своей походил...»; «Какая же вы, Марина, русская, если грибов не собирали. Таких русских не бывает...»
Пройдет время, и я научусь справляться с собой. Мне надо вернуть мое душевное равновесие, вернуть себя к тем источникам жизни, из которых я еще так недавно черпала силы. «Ты должна, — говорила я себе. — Должна, понимаешь?»
В купе вернулись мои попутчики. Я лежала недвижимо, боясь себя выдать. Слушала, как Виталий Витальевич забрался к себе на верхнюю полку и теперь тихо шелестит газетой. В щелку чуть приоткрытых век я смотрела на Виталия Витальевича. Мне видна только половина его лица — выпуклый лоб, светлые волосы, худая щека.
— Доброе утро! — шепнула мне Мария Сергеевна.
Я улыбнулась ей, поздоровалась и взглянула вниз.
— Хорошо поспали? — спросил Виталий Витальевич. В руке у него банка тушенки, и он вонзал в нее острый кончик перочинного ножа.
— Давайте-ка умывайтесь и идите завтракать, — сказала Вера Иннокентьевна. — Несите чашку, если есть, — крикнула Мария Сергеевна. — Есть у вас чашка? — Она перетирала чистой тряпицей кружечки на столике.
Привстав на коленки и притянув к себе стоявший в ногах чемодан, я достала мою чашку. Коричневая майоликовая, для утреннего завтрака чашка.
— Париж?
— Нравится?
— Очень.
— Берите ее себе.
— Ну нет, что вы.
— Мария Сергеевна, ну я прошу же... У меня есть еще! — и, не спуская глаз с ее милого лица, пошарив в чемодане, я достаю чашку Вадима, такую же, только потемнее.
— Вот!
Дрогнули в улыбке уголки красивого рта.
— Теперь мы попьем чайку, и вы расскажете нам о Франции, — сказал Виталий Витальевич. Он подождал, пока я сяду. — Расскажете нам о плененном нацистами Париже.
— О чем-нибудь другом, — сказала я и притянула к себе лежавшую на столе книжечку. Прочла: «Василий Теркин».
— Что написано в СССР за время войны? — спросила я, помолчав.
— Вот. — Он показал глазами на «Василия Теркина». — Классика.
— Твардовский очень хорошо показал душу русского человека, — сказала я.
— Значит, вы кое-что читали? Даже литературу советскую?
— Да. Мало.
— Что же из книг советских авторов вы читали в Париже? — спросила Мария Сергеевна.
— Твардовского вот. И еще о Сталинграде читала.
— У Виталия по сей день осколок сидит, — сказал Мария Сергеевна.
— И что же осколок?
— Нет-нет и напоминает, — сказал Виталий Витальевич и перевел разговор: — Да ну, бог с ним, с осколком, вы лучше расскажите нам, как во Франции прозвучал «Сталинград».
— Праздником великим.
— Фашисты как?
— Комендант Большого Парижа приказал приспустить флаги.
Виталий Витальевич достал из сетки и поставил на стол коробочку, так напомнившую мне Вадимовы коробочки «Скаферляти», только на этой написано по-русски: «Золотое руно», прочищая спичкой трубку, короткую, изогнутую, вытряхнул пепел.
Завтракали. Пили чай. Разговаривали.
Смотрела в окно. К горлу подступал комок...
Дни — у вагонного окна: заснеженные избы, поле, белое и безбрежное, укатанная дорога блестит на холодном солнце. Тихие деревянные станции.
У меня оставалось еще немного денег, и я свободно тратила их, не боясь остаться на мели: барышня в отделе кадров сказала, как приеду на место работы дадут подъемные, а вошедший в эту минуту в отдел кадров министр здравоохранения одной из среднеазиатских республик попросил барышню направить меня в его республику, сказал, что лаборанты-микробиологи им в республике «во как нужны». Еще он сказал, чтоб, как приеду, сразу явилась к нему в Министерство, и ободряюще мне подмигнул.
Чуть только поезд подходил к станции, я устремлялась на перрон. Протягивала женщине на открытой ладони мои рубли и показывала пальцем на то и на это, с особым удовольствием произнося непривычные мне слова: «клюква», «морошка», «брусника». Женщина, удивленно осматривая меня, старательно укладывала свои фунтики в согнутую в локте руку, брала с ладони рубли, возвращая лишние, отдаривала белозубой улыбкой. И когда, запыхавшись, я прибегала в купе и под укоризненными взглядами Веры Иннокентьевны и Марии Сергеевны вываливала на стол мою «экзотику», не было, давно уже не было, у меня минут уютнее.
Рядом были эти милые люди. По счастливой случайности я оказалась в одном с ними купе, и чужие, они стали мне близкими, единственно близкими на земле; в какой-то мере защитой от самой себя.
Только вот ночи. Ночью не то что днем, ночью все по-другому. Если человек почувствовал себя одиноким, то ночью одиночество особенно страшно. Но проходили и ночи.
Мои спутники деликатно ни о чем меня не расспрашивали, и я была благодарна им за это, но о Париже я им все-таки рассказала...
Ночь без сна. Мысли мечутся. Откинула одеяло. Села. Нельзя, просто нельзя позволять тоске распоряжаться тобой.
— Чем голова занята? — шепнул вдруг Виталий Витальевич.
— Ничем, — шепчу тоже.
— Спите.
— Буду.
— Мы думаем, что если выкинет нас с привычной дорожки — все пропало, — шепчет Виталий Витальевич, и я слышу, как он поворачивается на бок, шуршит табаком, набивает трубку. — Время на месте не стоит. Время — оно умнее нас... А синяки ваши пройдут. Вы слушаете меня, Марина?
— Да.
— Жизнь хороша, Марина. Черт побери, заманчиво хороша.
— Наверное. Сложна