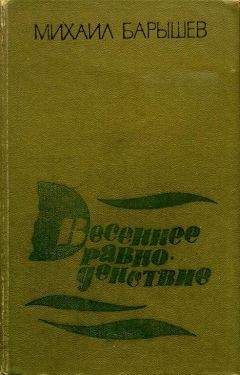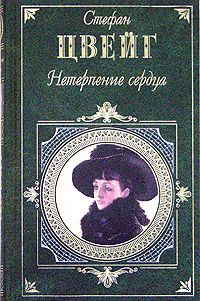— Поймите же, что это военное, — Бортнев хотел снова отодвинуть бумажку, но проворная рука Харлампиева прижала ее к столу.
— Все равно же среднее, — упрямо повторил пенсионер-экономист. — У нас в ВОХРе этот документ уважали… Дискредитировать хотите?
— Ну, знаете ли, товарищ Харлампиев! — Бортнев сдернул очки, приложил ладони к вискам и побагровел.
— Не имеете права не признавать. Раз написано среднее, значит, так и нужно считать… Я на эти курсы с помкомвзвода ушел… Год занимались. Вольтижировка три часа в день, устав караульной службы, После армии меня в ВОХРе сразу на отряд поставили!
Бортнев вызвал секретаря и попросил принести из отдела кадров заявление старшего экономиста Харлампиева. Тот повеселел.
— По рубке лозы я на курсах второе место занял… Тонкая, между прочим, штуковина эта рубка… Шенкеля надо уметь держать и направление клинка… Точно по полуокружности, слева — вниз — направо, — словоохотливо рассказывал Харлампиев.
Жебелев улыбался. Бортнев молчал, выкатив на скулах желваки. Когда начальник отдела кадров принес папку с делом о назначении персонального оклада старшему экономисту Харлампиеву, Василий Петрович вытащил многоцветную шариковую ручку, не спеша установил красный стержень, написал на заявлении «отказать», расписался и поставил дату.
Харлампиев споткнулся на полуслове и заморгал редкими белыми ресницами. Потом, осознав случившееся, взял заявление вместе с пухлой пачкой приколотых к нему документов и сказал караульным басом:
— На конфликт толкаете? Три месяца за нос водили, обещали, понимаете, справки требовали… А теперь отказать? Не выйдет, товарищ Бортнев, не на того нарвались… Будьте спокойны, я добьюсь, что мне по закону положено.
— Освободите кабинет! — рявкнул интеллигентный директор, надел очки и закурил сигарету.
— Приношу извинения, Николай Павлович, — заговорил он нормальным голосом, когда за Харлампиевым закрылась дверь и намертво защелкнулся язычок замка. — Короче говоря, есть мнение назначить вас заместителем по научной работе тире начальником отдела экономической эффективности.
— Меня? — удивился Жебелев.
— Вас, Николай Павлович, — подтвердил Бортнев. — Собственно, вопрос о вашей кандидатуре уже решен министерством. Мне поручено предварительно переговорить. Полагаю, что возражений не будет.
— Будут, Василий Петрович, — хмуро сказал Жебелев и дернул себя за ухо.
Потом он вздохнул, поглядел на три телефонных аппарата на директорском столе и покосился на наглухо захлопнувшуюся дверь. Вспомнил японцев, справки, волевого пенсионера-экономиста и «Полюстровскую» воду. Его вдруг неудержимо потянуло в собственный кабинетик, где не появлялись иностранные делегации, не звонили из вышестоящих инстанций, где так уютно погромыхивал мусоропровод и не надо было запирать дверь на замок.
Николай Павлович поблагодарил за предложение и отказался от должности заместителя но научной работе, заявив, что он желает заниматься наукой.
Ни его самого, ни Бортнева не смутило логическое противоречие, прозвучавшее в формулировке отказа.
— Некого, кроме вас, Николай Павлович, — сочувственно сказал Бортнев. — Надо же науку организовывать… Вы поймите меня правильно, но мы должны перевалить через этот бугор.
Василий Петрович постучал карандашом по настольному календарю, густо исписанному заданиями и срочными поручениями.
— Лаштин — хороший оперативник, но наукой от него ведь не пахнет. В доктора хотел выбиться — вот и вся его наука. А нам, Николай Павлович, настоящая наука нужна… Никто ее готовенькую не подаст, сами должны сделать… Через текучку, через звонки…
— Через «Полюстровскую» воду, — невесело хмыкнув, добавил Жебелев.
— А куда денешься, — сокрушенно согласился директор, — если «Боржоми» в продаже нет.
Через два часа Жебелев вышел из директорского кабинета замом по науке и руководителем нового отдела, объединяющего пять экономических секторов.
После Октябрьских праздников выпал снег. Пушистая пелена его легла на землю тихой ночью и утром ошарашила проснувшихся людей искрящейся белизной.
Снег настроил сотрудников научно-исследовательского института на лирический тон и помог забыть жаркие баталии, совсем еще недавно бушевавшие в стенах этого высокого учреждения.
Обиженный Сергей Потапович Харлампиев искал работу в родственных научно-исследовательских учреждениях.
Ему уже предложили место старшего экономиста в научном учреждении, занимающемся проблемами канализации и санитарной техники. Но Харлампиев отверг предложение. У него был теперь трехлетний опыт работы ученого-экономиста. Поэтому удовлетворить его могла только должность главного специалиста.
Руководитель группы Инна Александровна Замараева перебирала на новеньком столе отчетные ведомости, придумывая, как бы поплотнее загрузить подчиненных ей сотрудников и досрочно выполнить плановую работу. Но деловые мысли не шли в голову. Их перебивали воспоминания об интересной и увлекательной поездке в Тульское строительное управление, где Степану Кузьмичу Охомушу уже оставалось недолго быть начальником.
За столом, который раньше занимал Петр Петрович Восьмаков, сидел теперь Иван Иванович Студников, тихий и обходительный старец, долгое время проработавший руководителем сектора в параллельном институте. По просьбе одного уважаемого товарища Студникова в связи с преклонным возрастом перевели на вакантную должность старшего научного сотрудника в отдел Жебелева. Иван Иванович неторопливо писал какие-то бумажки по истории развития экономических исследований в области строительства, не занимался производственной гимнастикой, ел нормальные бутерброды, подремывал и никому не мешал.
Лешка Утехин, временно приостановивший работу над диссертацией в связи с изменением семейного положения, пропадал на заседаниях, добывая жилую площадь. Поддерживаемый Инной Замараевой и мобилизованными ею профсоюзными активистами, а также заместителем директора по научной работе Жебелевым, Лешка надеялся получить через неделю-другую восемнадцатиметровую комнату «за выездом» в многонаселенной коммунальной квартире коридорного типа за три квартала от института, в тихом переулке.
А пока после работы он проворно бежал на вокзал к пригородной электричке. И почему-то больше не опаздывал. Лида Ведута, надев на Лешку цепи брака, скинула с его плеч отягощающую цепь опозданий.
Лида была справедлива. Она решила, что две цепи Лешке носить ни к чему.
Михаил Иванович Барышев (1923—1979 гг.) родился в селе Малошуйка, Онежского района, Архангельской области. Отец его был рыбаком и вскоре увез сына на Баренцево море. В рыбачьем стане Териберка прошли детство и юность Михаила Барышева. Здесь он учился в школе, выходил в море с отцом, отсюда в июне 1941 года ушел в армию.
Суровая северная закалка, которую М. Барышев получил в детстве и юности, определяла все дальнейшие его дела и поступки. Резкая непримиримость ко всякого рода лжи, абсолютное неприятие фальши и в то же время широкая поморская доброта, постоянное стремление помочь товарищу, другу, четкая и активная гражданская позиция в делах литературных и общественных. Таким он был всю жизнь.
Сегодня о творчестве Михаила Барышева можно писать исследование, определяя главные линии его произведений, тематическую направленность, особенности стиля, языка и т. д. Им написаны получившие большое читательское признание, отмеченные прессой и всесоюзными премиями романы «Листья на скалах», «Потом была победа», «Вторая половина года», «Легко быть добрым», «Дорога в гору», более десятка повестей и столько же сборников рассказов детских и взрослых. Трагическая смерть оборвала жизнь писателя в самом ее расцвете, когда он успел уже многое сделать, но еще больше оставил в планах на своем рабочем столе. А стол его я бы действительно назвал рабочим, потому что обо всем, о чем писал, Михаил Барышев знал не понаслышке: он сам, своими ногами прошел путь всех своих героев, сам познал цену и ратному делу, и труду физическому и научному. И прежде чем пришел в литературу, имел за плечами богатейший жизненный опыт, опыт трудовой и нравственный. Человек большой и содержательной биографии, Михаил Барышев постоянно был верен одному своему принципу: он писал о том, что ему досконально известно. Факт для него — не повод для разговора вокруг да около, разговора вообще, а основа основ каждого литературного произведения.
Как нередко еще, к сожалению, прочитав рукопись или только что увидевшую свет новую книгу, ловишь себя на мысли, что автору чего-то не хватает. Чего-то. Достоверности, может быть. Знания дела изнутри. И дела, и чувства героев тоже кажутся знакомыми, словно уже когда-то и от кого-то слышал подобное. Вот тогда-то и появляется утомляющая описательность, а не точно сказанное слово, приблизительные сравнения, а не поистине неподдельные чувства и ощущения.