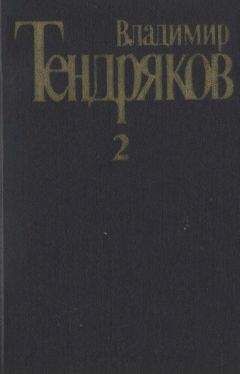В пахнущей типографской краской комнате мы застали редактора Клешнева.
— Вот, — объявила ему Валентина Павловна. — Андрей Васильевич Бирюков принес нам интересный, на мой взгляд, материал.
Клешнев был членом бюро райкома, членом исполкома райсовета, членом каких-то комиссий и при этом обладал способностью оставаться самой неприметной личностью во всем районе. Его не славословили на собраниях, не делали ему разносов, не вписывали выговоров. Невысокий, рыжеватый, с робко намеченной лысиной, в потертом костюмчике — невозможно в его наружности найти какую-нибудь характерную черту, просто человек средних лет, не слишком молодой, не слишком старый, похожий на всякого заурядного служащего районного масштаба. Он никогда не учился на журналиста, никогда не писал статей и вряд ли даже имел пристрастие к печатному слову, даже в доступном для рядового читателя размере. Между ним и его детищем, думается, было прямое сходство. Если б Клешнев вдруг перестал появляться в кабинетах руководящих работников, присутствовать на собраниях, то, пожалуй, никому бы не пришло в голову спохватиться, где он, куда это делся? Так же если б неожиданно перестала выходить «Колхозная искра», то это событие нисколько бы не отразилось на жизни района.
Клешнев не удивился моему появлению, принял мою статью, склонил над ней лысеющую голову и долго-долго читал. Прочел до конца, повернул, прочел начало и наконец сообщил:
— Я думаю, что этот материал нам не подойдет.
— Почему? — спросил я, переглядываясь с Валентиной Павловной.
— Э-э… Думаю, что вы не совсем правы.
— В чем? Возразите. С удовольствием вас послушаю.
— Э-э… Как вам возразить?.. Я не педагог, а вы разбираете сугубо профессиональные вопросы…
— А материал боевой, — вставила свое слово Валентина Павловна.
Клешнев пододвинул ко мне рукопись, косо взглянул на Валентину Павловну, вздохнул и признался:
— Вы же на Коковину да на Степана Артемовича Хрустова нападаете…
— Ну и что ж? — возразил я невозмутимо.
— А то, товарищ Бирюков, что Коковина и Хрустов матерые елочки, крепко в землю вросли. Что им наша статья? Ветер. От такого ветра они только сильнее зашумят.
— А если Андрей Васильевич подымет шум в райкоме о том, что вы не допускаете обмена мнениями? — спросила Валентина Павловна.
— Подымайте, не могу запретить. Если из райкома получу санкцию на напечатание, то всякая ответственность с меня снимается. — Клешнев еще ближе пододвинул ко мне статью.
Я снова переглянулся с Валентиной Павловной, и она взглядом сообщила мне: «Разговаривать больше нечего, действуйте!» Я взял статью, сунул в карман, бросил Клешневу:
— Пойду в райком.
Клешнев без осуждения и одобрения кивнул головой:
— Пожалуйста.
Я ушел, а Валентина Павловна осталась. И впервые я по-настоящему понял ее беду. Сидеть изо дня в день рядом с таким человеком, подчиняться его воле, помогать ему, хочешь не хочешь, разделять его взгляды.
Ващенков был в своем кабинете. Я привык с ним встречаться на дому, на короткой ноге, прошел сейчас прямо к двери, взялся за ручку. Меня остановила секретарша.
— Петр Петрович занят.
— У меня срочное дело.
— Без срочных дел мало кто ходит к секретарю райкома.
Но я уже успел открыть дверь.
— Петр Петрович, я помешал?
— Андрей Васильевич! — весело удивился Ващенков. — Заходите, заходите.
Кроме Ващенкова, в кабинете сидел еще Вася Кучин. Он поднялся, стиснул мне руку.
— Здравствуй. Ты чего это в неурочное время, мы уже по домам собрались.
Без лишних объяснений я вытащил из кармана статью, положил ее на стол перед Ващенковым:
— Вот. Отдал в газету — отказываются печатать.
— Что-нибудь щекотливое? — спросил Ващенков, надевая очки. — Поглядим…
Он стал читать, передавая прочитанные листы Кучину. Тот брал, читал, двигая удивленно бровями, молчал.
— Клешнев отказал? Понятно. Такая статья для него — кислое яблочко, — произнес Ващенков, передавая последнюю страницу. — А вы злой человек — ни пощады от вас, ни жалости Степану Артемовичу.
— Ну и Степан Артемович не отличается кротостью. Сегодня при всех учителях приказал мне оставить школу, — сообщил я.
— Вон куда зашло!..
Кучин дочитал, взглянул на меня из-под своей густой шевелюры.
— Не боишься, козленок, с волком бодаться?
Я пожал плечами.
— Нужда заставляет.
Кучин с сомнением покачал головой, а Ващенков из-под очков (дома я никогда не видел его в очках) с любопытством прощупывал меня маленькими, запавшими глазами. Он молча снял с телефона трубку:
— С Клешневым соедините… Клешнев? Слушай, ты только что отказался напечатать статью учителя Бирюкова… Да, да, он действительно не согласен по некоторым принципиальным вопросам с Хрустовым и Коковиной. Ну и что ж из этого? Можем мы зажимать ему рот?.. Не прав? Пусть даже не прав. Нам с тобой в этом трудно разобраться. Напечатаем его статью, а потом предоставим место в газете Коковиной и Хрустову. Твоя воля, отказывай на свой страх и риск, а мое мнение — такие вещи следует печатать… В дискуссионном порядке? Конечно, в дискуссионном. Пусть столкнутся два различных взгляда, пусть поспорят, от этого ничего, кроме пользы, не будет.
Ващенков опустил трубку, встал, протянул мне руку.
— Идите к Клешневу, не мешкайте, жмите покрепче. Стоит ли вас предупреждать, что он будет тянуть и выяснять исподтишка.
— Спасибо.
— Не за что. Я сделал то, что на моем месте сделал бы каждый. Спорьте, опровергайте друг друга, а мы поглядим со стороны, может, и нам станет ясно.
Кучин снова крепко стиснул мою руку своей жесткой ладонью:
— Я бы на твоем месте не лез на рога Хрустову.
Клешнев куда-то собирался уходить из редакции, я его застал в пальто и шапке. Валентина Павловна сидела за своим столом, читала готовые газетные полосы. Она подняла на меня глаза, одобрительно кивнула головой, сообщая этим, что все знает, слышала телефонный разговор Клешнева с мужем. Во время нашей короткой беседы с редактором она не вставила ни слова, но по напряженной позе, по медлительным движениям рук, осторожно, без шума перекладывавших бумаги, я чувствовал — внимательно ловит каждое слово.
Прямо в пальто Клешнев уселся за свой стол и снова долго-долго с примерным усердием перечитывал мою рукопись.
— Начало не совсем… — заявил он наконец. — Что это за начало? «На одном из педагогических советов заведующая роно товарищ Коковина с возмущением…» Какое же это начало? И это: «Не позволим!» Сухо как-то, товарищ Бирюков, узко. Надо бы пошире охватить. Сказать, например, о достижениях… А вы сразу: «Не позволим!»
— Нет уж, оставьте, как есть.
— Ваша воля. Имейте в виду, статья если и будет печататься, то в дискуссионном порядке.
— Согласен. Когда напечатаете?
— Я, собственно, ваших взглядов не разделяю…
— Не сомневаюсь в этом. Мне нужно знать, когда вы ее напечатаете?
— Не горит.
— Нет, горит. Меня сегодня освободили от работы, грубо выражаясь, выкинули из школы. Как видите, у меня горит почва под ногами.
— Статьей себя хотите спасти?
— Себя спасти мог и без статьи, а вот свои убеждения, что правда, то правда, пытаюсь спасти с помощью вашей газеты.
— М-да… Я еще посоветуюсь. Во всяком случае, на ближайшие два номера вам нечего рассчитывать — заняты.
— Я вам покоя не дам. Пока не увижу статью напечатанной, буду стучаться во все двери.
Клешнев ничего не ответил, покорно вздохнул, спрятал статью в стол.
Был вечер. На пухлых сугробах лежал желтый свет, падавший из окон. Я вдруг почувствовал голод: с утра ничего не ел, забыл пообедать. Ну и денек! Утром — школа, все, казалось, должно идти налаженным порядком, и вдруг этот размеренный порядок лопнул, завертелись события. Кажется, сегодняшнее утро, когда я привычной дорогой от крыльца дома направился в школу, было где-то в прошлом году.
Почти у самого дома я столкнулся с Топей — шерстяной полушалок наброшен на голову, свешивается поверх пальто, дышит прерывисто, увидела, бросилась ко мне:
— Ты!.. Полдня ищу! Где пропадал?.. Знаешь, что случилось?
— Что? — спросил я спокойно, ожидая от нее упреков за размолвку со Степаном Артемовичем.
— Наташка-то…
— Наташка?! Что с ней?.. — испугался я.
18
День, который был для меня переполнен событиями, для всех других шел своим чередом: продолжались в школе уроки; как всегда, учителя, окончив работу, разошлись по домам; как всегда, в строго определенный час вышел Степан Артемович из школы домой по обычному маршруту мимо моста.
Но прежде я должен поподробнее остановиться на одном человеке, самом близком, самом дорогом для меня из всех людей на свете, который жил в стороне от моих дел. Я хочу рассказать о моей дочери.