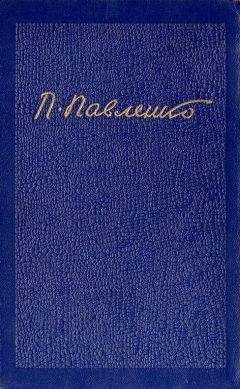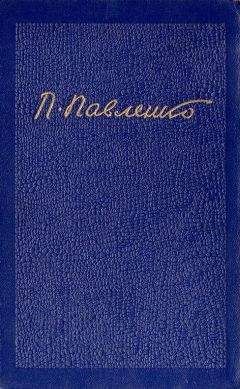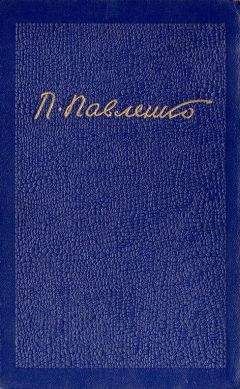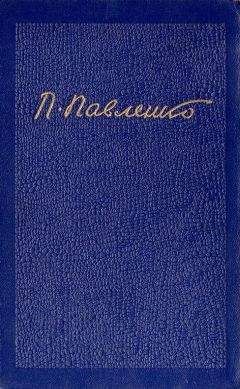Проводник, ахнув, бросился в тамбур, схватил желтый фанерный чемоданчик и выбросил его за окно. Стукнувшись о землю, чемоданчик раскрылся, и на сухую траву высыпались полотенце, мыло, половина огурца и отрез пестрого маркизета. Материя проползла по траве, норовя взлететь в воздух, зацепилась за колючие шишки татарника и затрепыхалась на ветру, взмахивая одним краем, как флагом.
Из вагонов зааплодировали и закричали «ура!», на откос полетели пачки папирос и свертки, а парень стоял в растерянной позе, не замечая своей славы.
1948
Дом отдыха горняков открылся раньше других, когда еще не кончилось восстановление разрушенного немцами курорта, когда еще стоял грохот и вилась пыль на всех улицах городка, когда на пляже, полупустынном и от этого неуютном, с утра до ночи просеивали песок и сооружали навесы, а на набережной наскоро сколачивали книжный киоск. Первая партия отдыхающих донбасских шахтеров в этой атмосфере спешного, пропустившего все сроки строительства, невольно чувствовала себя неловко.
Но городок с его строительной суетней был маленький, а горы, полулежащие вокруг него, и море — огромными, и отдыхающие сразу же после утреннего завтрака уходили в далекие прогулки, наведывались к рыбакам на окраине городка или целыми днями лениво «забивали козла» в санаторном садике, не чая дождаться обеда, а потом ужина, чтобы сейчас же залечь спать.
Маркшейдер Илья Миронович Жуков, широкоплечий, невысокий человек лет за сорок, дольше всех не мог привыкнуть к местному распорядку и скучал, томился мучительнее других. Он впервые был на Южном берегу Крыма, и этот край с его густо нагроможденными скалами, долинами, лесами, сухими руслами горных речушек и крутой стеной Таврических гор позади всего казался ему беспорядочным, где на малом пространстве всего напихано чересчур много, а для чего — неизвестно.
Море своей величавой простотой, пожалуй, одно действовало на него неотразимо, и он почти не покидал берега.
Стояло раннее лето, и все, что не успело доцвести за короткую весну, источало из себя краски и запахи. Погоды были ровные, не утомительно-знойные, не дурманящие.
Иногда мимо проходили пассажирские теплоходы, пробегали рыбачьи моторки, на красивых катерах проносились пионеры из Артека, и Жуков, глядя на жизнь моря, любил представлять себя то капитаном, то рыбаком, то механиком на моторке. От моря шел мягкий соленый запах, дышать было легко и все время хотелось дремать и странствовать по непрожитым жизням.
Лежа на мелкой серой гальке, Жуков почти не разговаривал со своими случайными соседями по пляжу, лишь иногда, когда что-нибудь особенно привлекало его внимание, поворачивался в полголовы и, если рядом был человек знакомый, молча кивал на происходящее.
Как-то в воскресенье, когда Жуков и навалоотбойщик Семенов, сосед по комнате, загорали после большого заплыва, на дальнем конце пляжа появились четыре женщины в синих рабочих комбинезонах — следовательно, не отдыхающие, а местные. Сняв спецовки, они деловито постирали их и аккуратно разложили сушиться, потом не торопясь постирали какую-то мелочь и уже после стирки стали плавать, нырять и вовсю веселиться.
Одна из них, которую все остальные называли Фросей, была, очевидно, старшей, хотя издали ничем не отличалась от подруг. Но Жукову показалась она странно похожей на его Анну, как она выглядела лет пятнадцать тому назад, в год их свадьбы, — такой же поджарой и озорной и такой же, наверное, замечательной работницей; и оттого, что он подглядел свою Анну помолодевшей, у него как-то защемило на сердце и стало еще скучнее, чем обычно.
«Поеду домой до срока, — подумал он, — разомлел я тут, разоспался, тоска вовсе заела. Ну их, с этим курортом!»
Он не обернулся даже к Семенову, хотя тот уже несколько раз бросал камешки ему в спину. Он глядел на купальщиц и, скорее догадываясь, чем различая, где там среди них эта Фрося, до того загоревшая, что она казалась натертой йодом, видел свою Анну Семеновну. Такая же вот, честное слово, крикливая, смелая, и всегда с ней легко и весело. Одного было Жукову жаль, что он плохо слышит, о чем они говорят и отчего хохочут не умолкая, но все-таки он сам невольно улыбался в усы.
Женщины недолго плескались в море и, отдохнув на берегу ровно столько, сколько нужно было, чтобы высохли их комбинезоны, быстро оделись и гурьбой пошли в сторону городка.
— Ну, пора и нам, — сказал Семенов. — Ничего девчата, что скажешь?
— Иди, я разок окунусь, — ответил Жуков, и хотя ему не хотелось сейчас купаться, но, чтобы остаться одному, он, ежась и фыркая, полез в воду. Его сильное, тучное, упрямо не загоравшее тело сразу порозовело.
Женщины, на ходу расчесывая волосы, поднялись по ступенчатой каменной уличке, и, чтобы не потерять их из виду, Жуков не стал задерживаться на море. Не вытираясь, прямо на мокрое тело набросил пижаму, обмотал голову полотенцем и, надувая щеки, заторопился вслед за ними, сам еще хорошо не зная, зачем ему это. Однако они опередили его и, наконец, совсем исчезли из виду. Он остановился, не зная, в какой из узких переулков, заставленных полуразрушенными домами, ему заглянуть, но тут женщины запели где-то невдалеке. Он двинулся на песню. Пели в четыре голоса, в лад шлепкам извести и скользящему шороху малярных лопаток по стенам. Женщины пели тихо, с особенной нежностью и любовью к мелодии, стараясь не испортить ни одного ее звука, не огрубить ни одного ее извива, будто сообща убаюкивали ребенка.
Они пели так хорошо, что Жуков остановился, пораженный мастерством их пения и забыв, зачем он очутился перед полуразрушенной трехэтажной коробкой здания, очевидно сейчас ремонтируемого. Он слушал с таким волнением, что не заметил, как одна из поющих показала на него глазами и как они вчетвером, не переставая петь, выглянули на улицу и улыбнулись.
— Товарищи больные, шли бы помочь нам, здоровым! — крикнула та, что первая заметила его, рыженькая и нелепо, по-мальчишески, вихрастая; и степенный Жуков, за которым никогда не водилось никаких приключений, стал подниматься по сходням на второй этаж с еще не до конца выложенной передней стеной.
Он не мог бы сказать, зачем это делает, и внутренне волновался, но делал вид, что все это так себе, шутки ради, от нечего делать.
— Здравствуйте, что это за женотдел такой? — спросил он.
— На знамя бы раньше взглянули…
В самом деле, красное знамя бригады восстановителей свешивалось со второго этажа, почти рядом с ним.
— Так, так. Вы что же, сами каменщики, сами и маляры?
— Всё мы, — сказала Фрося. — И плотниками нам быть, и кровельщиками, и водопроводчиками.
— Как восстановимся, к вам отдыхать поедем, — с девическим озорством добавила вихрастая.
— Москвич будете? — издали спросила третья, кряжистая, невысокая, с некрасивым лицом в ореоле соломенно-светлых блестящих волос.
Четвертая молча мешала палкой раствор в корыте.
— Из Донбасса. В два камня кладете? На глине?
— Строительный мусор заправили цементом, — идет, ничего.
— Так, так.
Жуков снял с головы полотенце и по-отечески просто протянул его той вихрастенькой, что окликнула его.
— Повесь, Вихрова, где-либо, да и пижамку заодно прибери…
Женщины засмеялись, услышав удачное прозвище.
— А ты, товарищ Певцова, — сказал он Фросе, — дай-ка мне свой топор. Это что у вас за камень такой? Будто галеты. Ракушечник? Занятный камешек, его не то что уголь рубать…
И топор легко забегал в его тяжелой сильной руке, стосковавшейся по делу.
— Кто у вас тут запевала, Кудрявцева? — обратился он к обладательнице красивых волос, и та, не портя игры, ответила:
— Певцова и есть запевала. А что ж дальше не знакомитесь? — и кивнула на молчаливую, возившуюся с раствором, с интересом ожидая, какое прозвище выпадет той.
— С Молчалкиной мы обзнакомимся, как она свое тесто замесит, — спокойно ответил Жуков. И женщины опять весело засмеялись, а та, о которой шел разговор, смущенно фыркнула в рукав.
— Из того теста только пельмени делать, — продолжал Жуков, обтесывая четырехугольник ракушечника, — а связывать камень оно не будет: песку много и песок крупный. Сеять, Молчалкина, надо было помельче.
— А вы разве что понимаете, вы же шахтер? — спросила прозванная Вихровой и остановилась, поглядывая на подруг.
— Шахтер, а вот разбираюсь, — сказал Жуков, поднимая на уровень груди камень в добрых четыре пуда и укладывая его на верхний ряд стены.
— Ты тут старшая, товарищ Певцова?
— Я, — ответила Фрося.
— Девчат надорвешь. Беседку сюда надо.
— Много чего надо, а нету.
— Ладно, завтра придумаю. Запевай пока что.
Фрося запела, словно только и ждала этой просьбы.
У нее было нежное, девически-чистое сопрано редкой артистической красоты. Голос очень молодил Фросю. Она как бы дышала мелодией, так было естественно ее пение. Затем вступила Катерина, та, что работала с раствором, следом за нею Таня, прозванная Вихровой, и Ольга, прозванная Кудрявцевой. Их голоса, более низкие, чем фросин, обняли первый тонкий голос и повели его, а он игриво вырывался и обгонял их, маня за собой.