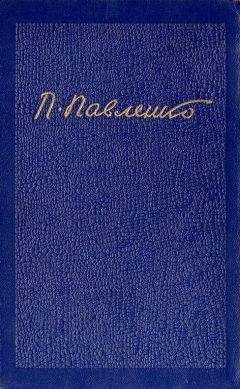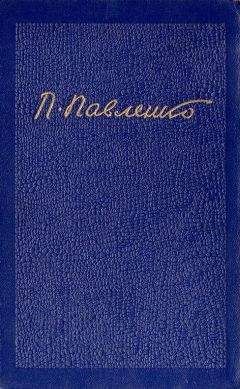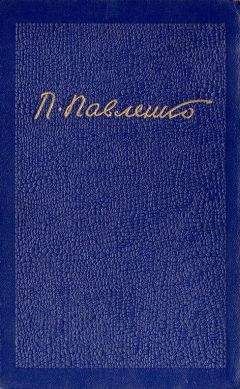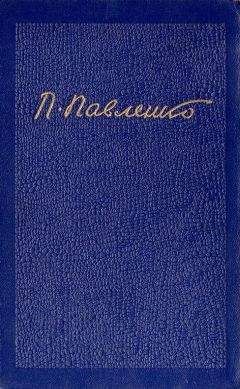Фрося запела, словно только и ждала этой просьбы.
У нее было нежное, девически-чистое сопрано редкой артистической красоты. Голос очень молодил Фросю. Она как бы дышала мелодией, так было естественно ее пение. Затем вступила Катерина, та, что работала с раствором, следом за нею Таня, прозванная Вихровой, и Ольга, прозванная Кудрявцевой. Их голоса, более низкие, чем фросин, обняли первый тонкий голос и повели его, а он игриво вырывался и обгонял их, маня за собой.
Женщины точно играли в горелки голосами, догоняя друг друга, хохоча, переглядываясь и вздыхая, и на душе Жукова было так радостно и хорошо, как редко бывало в жизни.
Выбирая себе самую трудную работу, он медленно обходил этажи, перенося и укладывая камни, мешая раствор и разнося его ведрами, и все время следил за Фросей, все время скрыто любовался ею. Она принадлежала к тому типу южанок, худых, как тарань, и подвижных, как ящерица, у которых главная красота не в изяществе фигуры или лица, а в пламени больших черных глаз, ослепительной, точно распахивающей сердце улыбке и в голосе, всегда широком, свободном, рожденном в бескрайных степях и не признающем шопота ни в горе, ни в радости, ни в деле. Она пела, как шла, как дышала, как думала; не учась этому, но зная, что поет красиво, что она хороша своим голосом, и откровенно гордясь этим.
Если бы птицы могли научиться песням от людей, они, вероятно, никогда бы ничего другого не пели, как только песни женщин, длинные и всегда немножко грустные.
Есть песни-пляски, как в Испании, где голос кружится вместе со словами, песни — любовные признания, как в Италии, когда певец влюблен и зовет и влечет за собой слушателя. Русская песня — раздумье. Она не быстра, не резва, не шумна. Грустный напев ее, однако, не означает печали, и ошибется тот, кто назовет ее невеселой. Раздумье требует медленного теченья, заводей, тихих плесов, маленьких мелей, широкой и ровной глади, лениво изгибающейся до горизонта. И часто бывает, что, напевая о вороне, улетевшем в родимую сторону, не о вороне ведет мысль певунья, не о вороне — о судьбе, не о сторонке — о мечте. Слова, когда их поют, означают совсем иное, чем просто произнесенные. Песня — это стих нашей речи. Нет человека, который бы не любил песни, который бы не переживал ее, который бы не вздрагивал сердцем от ее живительной ласки.
— Это не у вас звонок? — раздался вдруг голос.
Жуков крякнул, поморщился:
— Чего тебе, Вихрова?
— Вас, по-моему, к обеду зовут.
Илья Миронович протянул руку, и Таня вложила в нее полотенце и куртку.
— Рабочее место надо, хозяйка, в чистоте держать, — сказал он, натягивая куртку. — Раствор, Молчалкина, ты оставь до вечера, сам займусь. Песку только привези. Ну, пока, дочки, — и стал спокойно спускаться вниз, прогибая «сороковки» наскоро сбитых сходней.
— Вот спасибо вам так спасибо! — прокричали ему сверху.
Он помахал рукой, не оборачиваясь.
С этого дня жизнь Жукова в санатории резко изменилась к лучшему. Он перестал скучать, не заговаривал больше об отъезде до срока, стал есть за четверых и спать таким крепким и сытным сном, как у себя дома, при Анне, при ребятишках.
— Уж не влюбились ли вы, Илья Миронович? — спрашивала его врач Никитина, и он невольно краснел. Она думала — от самолюбия.
Поутру, искупавшись и потом плотно позавтракав, Илья Миронович отправлялся как бы погулять к берегу моря, ловко сворачивал, не доходя до пляжа, в сторону, и, убедившись, что за ним не следят, степенно направлялся в переулок, к дому, восстанавливаемому бригадой Евфросинии Ивановны Хустик. Его уже ждали.
— Здорово, сестрички! Ну, как сводка?
Вихрова показывала на фанерный щит с меловыми цифрами.
— Вчера, Илья Миронович, за полтораста процентов перешагнули.
— Вчера управляющий стройконторой вызывал к себе, — чуть улыбаясь и всем обликом своего лица давая понять, что все хорошее, что есть у бригады, идет собственно от него, от шефа, докладывала Фрося. — Шурка Столетова вызывает мою бригаду на шесть норм.
— На шесть?
— На шесть, Илья Миронович. Прямо страх берет, справимся ли?
— Справишься. Подписывай, не горюй.
— Ой, не могу и не могу, Илья Миронович, — лукаво-смиренно и как бы испуганно отнекивалась Фрося.
Ей вторила говорушка Вихрова:
— Вы уедете, а мы тогда как?
— Помолчи, Вихрова. То не ты и не я, а называется — шефство. Поняла?
— Понять-то поняла, Илья Миронович…
— А вот вижу, что и не поняла. Шефство называется.
— От Анны Семеновны есть что-нибудь? Дома как, в порядке? — перед тем, как приступить к работе, спрашивала Фрося, уже знавшая весь строй жуковской жизни.
— В порядке. Ну, дочки, действуем. На шесть норм! Чтоб вашей Столетовой сто лет покоя не было.
В один из очень напряженных дней, когда соревнование приняло быстрые темпы, Жуков явился с навалоотбойщиком Семеновым. Тот сначала поеживался, посмеивался, работая не всерьез, а как будто играл с детьми, но наутро опять явился, да так и зачастил вместе с Жуковым.
Бригада Столетовой догоняла.
— Пятки нам поотбивает, — говорила Вихрова.
Горняки работали теперь часов по шести в день.
Заделывали пролом в стенах третьего этажа, и подавать камень было уже нелегко.
Жуков сколотил уже две тачки для камней, и они с Семеновым вручную подавали их наверх по шатким сходням. Они делали с утра до обеда по двадцати, а в прохладные и дождливые дни — по двадцати пяти подъемов, и уставали всерьез, но оставлять бригаду без поддержки ни за что не хотели.
Работа, впрочем, сказывалась отлично на их состоянии. С высоты третьего этажа был виден весь берег с бесцельно слоняющимися горняками в белых санаторных костюмах, и Семенов постоянно подсмеивался над ними, — ведь вот не догадаются же люди, как можно жить весело и толково, — и казались они ему от этого людьми в высшей степени недалекими, вполне достойными самой скучной жизни, какая только есть на свете. Женщины были согласны с Семеновым, но вслух своего мнения не выражали, — Илья Миронович не одобрял насмешек.
Недели за две до окончания соревнования Столетова добилась шести и трех десятых норм и послала новый вызов бригаде Хустик. Дело осложнялось тем, что срок Жукова подходил к концу и уже заказаны были билеты на автобус и поезд.
Увлекательное, милое дело, которое захватило его так глубоко, что он готов был остаться хотя бы еще на неделю после своего срока, требовало тонкого подхода, а Жуков сейчас почти не имел времени, чтобы потолковать с отдыхающими, да, признаться, и не видел среди них никого, кто бы сумел заменить его с Семеновым. Правда, приехал горный мастер Забельский, коммунист, спортсмен, золотая душа, но Жуков его почти что не видел, а говорить на ходу, в столовой, не считал возможным.
«Забельский бы повел дело, — думал он, — не подкачал бы».
И вот однажды на пляже появился Забельский. Он не носил санаторной одежды, и на его плечах небрежно развевалась нарядная сине-красно-голубая шелковая пижама.
— Вихрова! Видишь того красавца?
— Красавца? Да он, Илья Миронович, совершенно физически не подтянутый!
— Молчи, Вихрова. Беги к нему, скажи: товарищ Забельский, оперативное дело, Жуков Илья Миронович просит вас подойти.
— Сюда, к вам?
— Нет, ко мне в Сталино. Беги, пока не ушел. Певцова, четвертинка имеется в резерве?
— Имеется.
— Ставь. Сейчас тебя сдавать буду.
— Ой, боже ж мой, Илья Миронович, а вдруг да мы чем-либо не покажемся ему, это ж такой позор будет!.. — взволнованно сказала Катерина.
— Покажешься!.. Бери пример с Молчалкиной, она и на своей свадьбе рта не раскроет.
— Поднимут нас ребята насмех, — осторожно заметил Семенов. — Вы же наш народ знаете, — к девчатам, скажут, подладились… как бы до дому не дошло… Смотри, Илья Миронович, накладка весьма нежелательна…
— Ладно. Смотрю. Ты только не вылазь, ради бога, безо времени.
Бригада внимательно следила за тем, что происходило на пляже. Было отлично видно, как вихрастая Таня подбежала к Забельскому и начала что-то говорить ему, то и дело показывал руками в сторону постройки, а Забельский и с ним еще отдыхающий сначала недоуменно и недоверчиво, а потом хохоча, слушали ее.
— Вот же языкастая какая! — неодобрительно заметила Фрося. — Нашла об чем смеяться!
— Ты помолчи. Не против тебя смех.
— Так хоть бы и против вас, Илья Миронович, с какой же стати!
— Наш народ без смеха и плюнуть не умеет. Гляди-ка, уговорила, ведет! Запевайте, дочки!
Фрося повела глазами на своих и запела. Песня не сразу наладилась. Жуков морщился. А от берега уже шел Забельский, сопровождаемый Таней и каким-то незнакомым горняком.
Забельский издали погрозил кулаком:
— Жуков, ты что, налево работаешь? Подряд взял втихую? Ставь магарыч, а то в газете пропишу!.. А поют-то ему, поют как! Вот же, старый чорт, сумел устроиться… Ну, смотри, какой комбинатор!.. И никому ни слова!