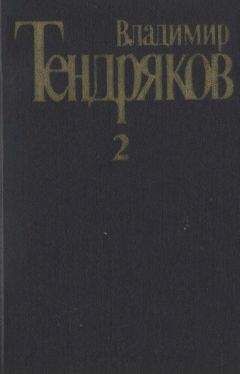— Нашу дочь спас от смерти! Понимаешь или нет — твою дочь! Надо же быть таким безмозглым идиотом, таким толстокожим, чтоб не понимать этого! А еще считаешь себя порядочным человеком! Что теперь о нас подумает? Что будут говорить люди? Да что там люди! Своя собственная совесть покоя не даст!
Наташка забилась в угол, следила за нами испуганно мерцающими в полутьме глазами. Тоня стояла посреди комнаты, высокая, гибкая, сильная, лицо перекошено, в округлившихся глазах ненависть.
«Совесть покоя не даст!..» Покоя… Она больше всего на свете бережет свой покой. Не дай бог, если проснется совесть и начнет тревожить — неприятность.
— Мы, видите ли, ищем великие идеи! Мы не желаем жить, как все живут. Мы умнее остальных! Да кому нужны твои идеи! Таким, как ты, как этот физик, умникам. Всем остальным плевать на них. И я плюю на ваши идеи! Плюю! Всегда буду на стороне Степана Артемовича. Всегда!..
Я вышел из дому, громко хлопнув дверью.
22
Утром, едва я перешагнул порог школы, как почувствовал: что-то изменилось. Тетя Паня, наша гардеробщица, принимая пальто, взглянула на меня как-то значительно. В дверях учительской я столкнулся с Акиндином Акиндиновичем. Он смутился и с поспешностью уступил мне дорогу. Иван Поликарпович при моем появлении не ограничился обычным дружеским кивком, а, кряхтя, поднялся со своего кресла, подчеркнуто поздоровался за руку.
Выскочившая из директорского кабинета Тамара Константиновна, заметив меня, вздернула надменно свое белое лицо и взглянула так, как давно уже не глядела: не в глаза, а в брови. И я понял. Когда Василий Тихонович с озабоченным выражением подошел ко мне, кивнул на дверь директорского кабинета: «Он там…» — я коротко ответил: «Знаю».
Через несколько минут я увидел его. В пальто, с шапкой в руках, седой ежик волос торчит над меховым воротником, он вышел из своего кабинета, прошел молча по учительской и исчез в дверях.
В конце рабочего дня на стене учительской, там, где вывешивались сообщения об изменении в расписании, приказы по школе, появилось объявление:
«Сегодня в восемь часов вечера в роно, в помещении методического кабинета, состоится совещание. Явка всех преподавателей обязательна».
В методическом кабинете, не особенно просторной комнате с побеленными стенами, заставленными стеллажамн, было тесно и душно. Я оказался прижатым к окну, от которого веяло зимней стужей.
Степан Артемович сидел за столом, рядом с Коковиной. Он утонул в своем распахнутом на груди громоздком пальто. Лицо его было бледно, глаза устало прикрыты веками; свет от электрической лампочки, висевшей над его головой, резко подчеркивал глазные впадины и провалившиеся щеки.
Все, что он сейчас говорил, не ново. В общем, он повторял свое выступление на педсовете. Но интонации его голоса — тихого, усталого, с затаенным страданием, с искренней, неподдельной болью — новы. Чувствовалось, каждое слово идет от сердца.
— В нашей школе, товарищи, произошел раскол. Одни учителя желают жить прежней, нормальной жизнью, работать, как работали до сих пор. Другие — их меньшинство — во главе с Бирюковым предлагают установить новые порядки, новые, нигде не испробованные, никем не проверенные приемы обучения. Охотно поверю, что в этом есть что-то интересное. Я не могу отмахнуться от того факта, что такой опытный, уважаемый всеми педагог, старейший член нашего коллектива — Иван Поликарпович Ведерников заинтересовался работами Бирюкова. Я бы сам с удовольствием глядел со стороны на деятельность Бирюкова, любопытствовал, что получится… Со стороны, товарищи! Но для меня, как директора, не может быть взгляда со стороны. Я должен или подхватить идеи Бирюкова, на свой страх и риск проводить их в жизнь, или играть нечистую игру: похваливать, делать благодушную мину, а втихомолку осаждать порывы. Первое я не могу принять потому, что при всем уважении к новому я боюсь прожектерства. Верю только проверенному делу, не имею права допускать ошибок, так как любая ошибка в школе может покалечить десятки, если не сотни, человеческих судеб. Я не могу взять на себя смелость ошибаться. Моя совесть не разрешает вести и двуличную игру с Бирюковым. Потому я открыто выступаю против. Я высказал свои сомнения Бирюкову лично, предупредил его на педсовете — ничто не помогло! Тогда я поставил вопрос перед своей совестью: могу ли принять крайние меры? Кто больше имеет прав оставаться в школе, я или Бирюков? Я рассудил, что должен остаться я, как старший, как более опытный. Я запретил Бирюкову идти на урок. Своевольство? Превышение прав директора? Судите как хотите. Если б Бирюков раскаялся, дал слово, что не будет мешать нормальной работе, я охотно пошел бы ему навстречу. Но он не подумал раскаиваться, он воспользовался моей болезнью. Судите меня. Но как бы вы ни судили, от вопроса «я или Бирюков» уже никто отмахнуться не сможет. Осудите меня — уйду из школы. Признаете меня правым — нога Бирюкова не ступит ни в один из наших классов…
Опущенные веки, изможденное болезнью лицо, слабый, с душевными интонациями голос, который, казалось, вот-вот перейдет на шепот, угаснет совсем. Каждый из сидевших боялся пропустить хоть слово; глухая, подвальная тишина висела в комнате: ни скрипа, ни шороха, ни легкого вздоха. Я видел впереди себя неподвижные затылки, видел нездоровое, с провалившимися щеками лицо Степана Артемовича. Его слабый, искренний голос подкупал и меня. Я не испытывал ни возмущения, ни гнева. Мне было жаль этого человека. Если б сейчас стоял вопрос о каких-то личных интересах, я, не задумываясь, встал бы и сказал: «Сдаюсь, уступаю, считайте себя победителем».
Но дело не в личном. Я не имею нрава быть жалостливым. Этим бы я предал своих учеников. Да только ли их?..
Не могу с ним согласиться, не могу пойти на уступки, не могу потому, что стану считать себя предателем перед своим собственным будущим, перед будущим тех, кто сидит рядом со мной, перед будущим своих учеников, своей дочери!
Жалость к Степану Артемовичу, какую испытываю сейчас я, испытывают и другие. Рядом со мной сидит Жора Локотков: волосы взъерошены, плечи опущены, тонкая шея вытянута, на мальчишеском лице со вздернутым носом, как в зеркале, отражаются боль и страдания Степана Артемовича. Сейчас его сочувствие на стороне директора. А что ж тогда переживают другие, те, кто относится ко мне настороженно? Скорей всего не Степана Артемовича, а меня оттолкнут в сторону.
Степан Артемович умолк, отвалился на спинку стула. Коковина с бесстрастным лицом, с прямой посадкой, занимающая свое председательское место, предоставила слово заведующей методическим кабинетом. Пожилая, рыхлая, с вяловатыми движениями, вечно озабоченная Полина Федоровна Решетова много лет раскладывала по полочкам различные приемы преподавания, собирала литературу, выдавала на руки брошюры. Сейчас она, склонив набок голову, с жалостливым упреком бабушки, желающей добра непутевому внуку, заговорила:
— Андрей Васильевич, дорогой товарищ Бирюков, мне хотелось бы сказать о вашей самонадеянности. Вы мечтаете о перевороте, пытаетесь низвергнуть старое. Но есть ли у вас на то основания? Достаточно ли опыта? Хорошо ли вы знаете все сокровища, накопленные в течение веков педагогической наукой? Нет, не знания движут вами, а излишняя самонадеянность, которая толкает вас не только на прямую бестактность, но даже на подлость. Да, да, оглянитесь на самого себя! Степан Артемович спасает вашу дочь, жертвует здоровьем, надолго ложится в постель, а вы тем временем пишете на него какую-то статью в газету, подбиваете против него учителей. Оглянитесь! Я верю, что еще можете оглянуться, верю, вы не до конца потеряли совесть. Не становитесь на путь подлости, Андрей Васильевич! Вы еще молоды…
Излив душу в родительских наставлениях, Полина Федоровна уселась на свое место.
Возле меня взвился Жора Локотков:
— Разрешите!
Коковина разрешила.
Задевая сидящих, он торопливо прошел к столу, повернулся, взъерошенный, с изумленно наморщенным лбом, не знающий, куда спрятать руки.
— Товарищи! — Жора заложил руки за спину, вновь освободил их. — Товарищи! До этого вечера я был сторонником Андрея Васильевича Бирюкова. Я верил в него, как… Ну, как в гения… Андрей Васильевич! — Он приподнялся на цыпочки, через головы попытался вглядеться в меня. — Не подумайте обо мне плохо. Я не предатель. Но моя совесть подсказывает: мне не по пути с вами. И каждому честному педагогу — я понимаю теперь это — не по пути. У меня сердце кровью обливалось, когда слушал Степана Артемовича. Больной человек, спасший вашу дочь, вам же вынужден доказывать свою правоту. Какое бы ни было ваше дело, но оно не проверено, оно сомнительно. Как же внедрять сомнительное? Я прежде об этом почему-то не думал. В стране у нас есть исследовательские институты, есть особые опытные школы. Пусть они ищут. А наша обязанность учить…