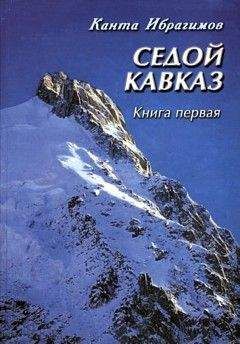Знал Василий, что лишь дед один сидит, может быть, за столом, а все остальные таращатся возле окон — вслед ему смотрят. Потому, не оглядываясь, переехал плотину и уж за старой рословской избой развернул коня поперек дороги, остановился, прощально помахал рукой. Знал он, что родные взгляды проводят его до вершины кургана, пока не скроется за ней. Пустил коня рысью, мысленно благодаря деда за то, что не стал выпытывать секретов внука. И никто не спросил ни о чем.
Но теперь, прильнув к окну, Дарья, не обращаясь ни к кому, поминутно спрашивала:
— Да куды ж эт он заторопился-то? Ведь ровно силой погнали его из избы-то!
4
Исполняя в точности приказ Василия, сидела Катюха в эти дни затворницей, носа за ворота не показывала. И не дни — часы отсчитывала, чтобы скоротать время. Никаких дел у нее не было, оттого еще тошнее оно тянулось. А так хотелось, чтобы скорее приехал Васенька да увез ее подальше от страшных мест. Уж там заживут они с любимым! Ей было все равно, где это — «там». Лишь бы вместе, тогда никакие трудности не страшны.
Хозяйка не наседала на нее, расспросами не докучала. Но, истомленная бездельным ожиданием, Катюха сама поведала свои думы да напросилась хоть чулок ей повязать. Бабка дала постоялке чулок шерстяной в поперечную полоску, наполовину связанный, и будто бы ни с того ни с сего сказала:
— Как бог велит, так и станется все, касатушка. А ты называй меня баушкой Ефимьей. Ладно? Давно уж не слыхивала я свого имечка. И ты, знать, не заживешься у меня долго-то.
— Нет, бабушка Ефимья, не заживусь, — отозвалась Катюха, шустро перебирая блестящие спицы. — Коли уж Вася решился, не станет он менять свого слова.
— Да ведь и я эдак же думаю, Катя, — согласилась Ефимья, собираясь на базар. — Поглянулся он мне в ентот раз… Не ветреный вроде бы человек, и самостоятельный, и красавец писаный… А только, голубушка, над всеми нами — бог. И над им — тоже.
Ефимья была уже за дверью, когда до Катюхи начал доходить смысл бабкиных слов. Конечно, не все зависит от человека, но неужели еще и теперь может им помешать что-то? Она стала перебирать в уме возможные неприятности. И Гришка мог проболтаться, и Василия дед мог не отпустить из дому, и несчастье ведь могло с ним в дороге приключиться… Словом, чем больше думала она о разных бедах, тем больше рождалось их в растревоженном сознании. Но, не желая расставаться с заветной своей мечтою, не желая мириться с выдуманными страхами, она отвергала все их, оставляя себе светлую надежду.
А тут и Ефимья домой воротилась. Кошель свой тощий даже не пронесла к залавку — прямо с порога возвестила:
— Ну, Катенька, посетил, знать, бог, да не тебя одну, — всю Расею-матушку: войну ерманский царь объявил!
Катюха смотрела на бабку непонимающим взглядом, продолжая все медленнее двигать спицами. А хозяйка, не отходя от двери, вдруг залилась горькими слезами. Ревела она грубым, мужичьим голосом, и слушать ее было жутко. А Ефимья, сморкаясь в подол зеленой юбки, натерла докрасна большой репчатый нос и, вытирая подолом же глаза, сквозь слезы выговаривала:
— Пахомушку мово… младшенького… суседка сказывала… будто бы уж выкликнули… По осени в позапрошлом годе только со службы воротился… Женили мы его миром да собором… И жену бог дал… х-хорошшую… и дитеночка бог им дал… Да, знать, уж другим она зачата…
Так же неожиданно, как и начала, перестала плакать Ефимья, сказала:
— Добегу я к им, дознаюсь, не наврала ли чего суседка-то. Коли правда — Пахомушку забрили, заночую я тама. А ты уж, касатушка, за хозяйством-то догляди… Козу накормить да подоить не забудь.
— Догляжу, догляжу, баушка Ефимья, — успокоила ее Катюха. — И так уж без делов, того гляди, умом рехнусь. И подою, и накормлю, и огород полью.
— Да на улицу-то не суйся: не ровен час — какого лиходея нанесет. Калитку за мной запри.
— Запру, баушка. Только, знать, не до нас теперь: у каждого свое горе в избе.
И впрямь с ума бы сойти можно, если бы не дела домашние. За ними и время летит незаметно, и мысли дурные меньше одолевают. И все же никуда от них не денешься, от себя не убежишь. Чего бы она ни отдала теперь, чтобы узнать свою судьбу! А возьмут ли в солдаты Василия или, может, оставят пока? Успеет он увезти ее отсюда или не успеет?
Работу свою делала Катюха не торопясь, чтобы время скоротать. В палкинском бы хозяйстве подомовничать-то — не соскучишься!
Всего две грядки успела полить — дождь хлынул, с ветром, с грозой. Загнал он Катюху в избу. Темно сделалось. Но огня не вздувала. В потемках с домашними делами управилась, поужинала да еще чулок бабке довязала и спать улеглась. А сон-то никак не мог одолеть ее. Ворочаются в голове думы — спать не дают.
Дождь уж давно перестал. Тишина устоялась на улице — ни звука. Глухая темная ночь. От одиночества жутковато стало Катюхе, неприютно как-то. И враз — ровно железным молотком по сердцу долбанули — в калитку кто-то застучал.
Сжалась она в постели, скрючилась, готовая исчезнуть. Хоть провалиться бы! Ефимья не стала бы в калитку стучать — к окну бы подошла. Кто же мог припожаловать в такое время?
А стукотня гремит по калитке. Перестанет на миг и опять гудит. Что же делать-то? К окошку бросилась. Калитку и человека возле нее не видать отсюда, а конь у палисадника стоит — видно.
— Да ведь эт Карашка, знать, Васин! — ахнула Катюха и метнулась к дверям. Даже опорки бабкины в сенцах насунуть не успела.
— Отвори, баушка! — заслышав скрип двери, взмолился Василий. — Христом-богом прошу тебя — отвори!
— Да отворяю, отворяю, дедушка ты мой милый! — сквозь слезы, громко заговорила Катюха, отодвигая засов.
— Ка-атя! — удивился Василий. — А бабка-то спит, что ль, непробудным сном?
— Коня заводи скорейши! — громко зашептала она, не слушая его.
Остаток ночи мелькнул незаметно. А утро было для них ужаснее самого похмельного, потому как такое похмелье ничем не вылечишь.
Забегала к ним бабка Ефимья часов около десяти ненадолго. Справилась о хозяйстве и опять же всплакнула:
— И ты, соколик, загремел, стал быть! Ох, ребяты вы, ребяты-ы! Либо вы кого побьете, либо вас побьют — все одно нехорошо. Делов-то сколь кругом, а вас на бойню гонют…
— Ладноть, баушка, причитать-то, — оборвал ее Василий. — В том, видать, без нас разберутся. Ты скажи-ка лучше, когда Пахому твоему на погрузке быть?
— Да вот уже скоро. Сичас… К двенадцати велено ему на станцию явиться.
— Ну вот, одним поездом и тронемся, стало быть. И мне, знать, пора налаживаться.
— А ты побудь, побудь еще с часок али поболе. Не беги от Кати, бог знает, сколь вам не свидеться теперь. На коне-то долго ли до станции доскакать… Покорми, Катя, служивого на дорогу. Побегу я, как бы не ушли там без меня наши.
Словно в тумане прошел этот час, отмеренный судьбою им на двоих. Глаза у Катюхи не просыхали, что бы она ни делала. А хуже всего, как последние минутки подступятся. И продлить их — нет у Катюхи никакой возможности. Полетела бы она за любимым на станцию, проводила бы его со всеми вместе, на людях и свое горе полегче бы выплакалось… Нельзя! Теперь в городе полно и хуторских, и станичных знакомых — враз кто-нибудь да навернется. Кузьку небось и в этот раз не взяли, бракованный он. А хороших-то всем надо: и царь на войну их зовет, и смертушка с косой вострой ждет не дождется!
Во дворе у ворот стояли они уже минут десять, и ни у того, ни у другого не подымалась рука отворить калитку. Наконец Василий сказал:
— Ну, ладноть, Катя, прощай! Все равно и там ведь не всех перебьют. Може, бог приведет и нам встренуться.
— Молиться за тебя стану, ангел мой! Весь пол в монастыре лбом изобью! Услышит господь молитву мою, уберегет он тебя и от пули вражьей, и от меча вострого — не порвут, не поранят они твоего тела белого, не отымут жизню твою бесценную.
Распахнул Василий калитку и, вырываясь из Катюхиных рук, нырнул в улицу. И уже с седла, поправляя котомку, крикнул:
— Не торчи тута, запирайся. Прощай, любушка моя!
Народу возле станции собралось видимо-невидимо. Тут и гармони где-то в гущине пиликали, и песни слышались невеселые, и опять же этот осатаневший бабий рев. Пробиваясь через толпу, Василий с высоты верхового наездника отыскивал своих хуторских.
В правом крыле, невдалеке от последних вагонов, заметил он Леонтия Шлыкова. Гришка, стало быть, где-то поблизости.
— Здравствуй, дядь Леонтий! — приветствовал его Василий. — Ох, и ты тута! Здоров, Гришка!
— Здравствуешь, солдат бравый! — отвечал Леонтий. — И где ж эт черти носили тебя до сех пор? Ты должен в первым ряде стоять да молодых подучивать, а его со всеми собаками не сыщешь…
Не слушая Леонтия, Василий оттянул Гришку за рукав, спросил тихонько: