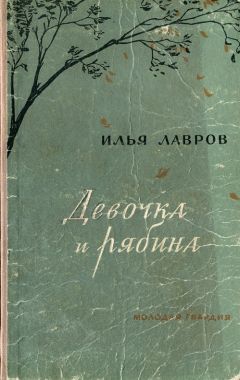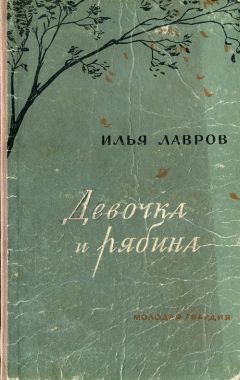— Начинаем! Приготовились! — шипел он.
Ударил в гонг, и тот запел торжественно и бархатисто, но тут Вася Долгополов нечаянно толкнул его, и гонг загремел по полу. В зале засмеялись. Неженцев в бешенстве погрозил кулаком.
— Занавес! — скомандовал он.
Рабочий сцены, приставленный к занавесу, глядел по сторонам.
— Иннокентий! Занавес! Уснул?! — крикнул Сеня таким голосом, словно железные пальцы сдавили ему горло.
Иннокентий бросился, потянул за веревку. Блоки завизжали, ситцевая занавеска поползла рывками, и вдруг перестала двигаться, открыв половину сцены.
Сеня метался, шипел, махал руками, выкатив глаза. Наконец, прыгая через ящики и табуретки, подскочил к веревке, принялся дергать, но занавес только извивался. В зале дружно хохотали.
— Позорище, позорище! — шептал Северов.
Актеры хватались за головы.
Караванов повернулся, сверкнул насмешливо глазами и снова принялся спокойно причесывать парик.
Воевода и Дальский взяли половинки занавеса и, прячась от зрителей, развели их.
— Проверять нужно, — яростно шипел Воевода, прижав Сеню в углу.
Спектакль начали. Зрители, стиснув друг друга, сидели на скамейках без спинок, стояли у стен. Мальчишки устроились на полу, положили локти на низенькую сцену. Актрисы мели по их лицам подолами диковинных платьев. И в зале и на сцене душно.
Алеша через дырочку в матерчатой стене глядел на лица зрителей.
Потом он задумался о роли, стараясь войти в мир Дормидонта, смотреть на все его глазами.
Естественно держалась на сцене Снеговая. Прост и хорош был Караванов.
Но вот заговорила Чайка, и Алеша зажмурился. Она не слушала партнера, не старалась понять его, ответить ему. Она только ожидала реплики, чтобы продекламировать заученный текст. Она жила сама по себе, для самой себя. Отвечая партнеру, даже не поворачивалась к нему, — чтобы лицо ее все время было видно из зала.
«Лишь бы себя преподнести, — сердился Северов, — а на спектакль, на партнеров — плевать».
Скоро выходить на сцену.
Алеше показалось, что нечем дышать, что забыл весь текст, что сейчас будет позор на всю жизнь.
На цыпочках подошел Воевода, сжал его локоть, шепнул:
— Не волнуйтесь. Играть будете хорошо! — Поправил на парике завитушки.
Алеша поблагодарил улыбкой. Шумно переведя дыхание, стал слушать разговор на сцене. Грудь вздрагивала от ударов изнутри. Приготовился. Прозвучала реплика. Вышел, глянул на Чайку-Людмилу, подумал: «Милая!» — и по лицу расплылась улыбка. Зрители засмеялись, поняли, что парень заворожен девушкой.
Северов ушел из того мира, который остался за матерчатой стенкой, шушукался, шелестел, толкал в нее локтями. У Северова началась другая жизнь. Но сосредоточенно живя этой другой жизнью, созданной Островским, он успел понять, что на сцене не повернуться, что переходы пропадают.
Виднелись локти мальчишек, положенные на сцену, и очарованные лица, положенные на эти локти. Край глаза уловил глубину зала, полную людей.
Алеша понял, что от волнения почти кричит, заговорил проще, тише, и сразу почувствовал себя хорошо. Зрители все оживленней откликались на его слова, смех нарастал, подбадривал, и Северов забыл о волнении.
Болезненная чуткость и обнаженность сердца, которые так мучили в жизни, на сцене были драгоценностью. Алеша мгновенно откликался на все, веря уже, что это не сцена, а сама жизнь.
Он потом не мог сказать, как играл. Просто было грустно или весело, просто возмущался или боролся. И только чувство радостной удовлетворенности говорило о том, что он жил на сцене правильно.
Зрители откликались на спектакль шумно, несколько раз аплодировали.
Тронуть сердце человека — это и есть актерское счастье. Когда Алеша за кулисами ожидал второго выхода, ему вся неустроенность, теснота, свет — то затухающий, то разгорающийся, — костюм под столом, замученный Сеня — все уже представлялось милым, задушевным.
Он радостно заметил, что даже Чайка и Дальский изменились. Их тоже коснулось актерское счастье, и они, уходя за кулисы, становились добрыми, простыми…
Настоящее творчество и людей делает настоящими. Кто вошел в театр — тот не выйдет из него, кто побывал на сцене — тот не станет только зрителем.
Мысли прыгали, собирать их некогда. Снова — на сцену.
В конце все актеры вышли на сцену. Зрители аплодировали стоя, актеры кланялись им.
— Приезжайте к нам почаще. Праздник ведь это для души! — приветливо обратилась к Северову черноглазая худенькая женщина.
У Алеши задрожали уголки рта, и он глухо, из-за комочка в горле, ответил:
— Приедем. Еще надоедим.
— Эх, Дормидоша, с носом остался?! — крикнул какой-то озорник.
Засмеялись, занавес закрылся, и зрители шумно повалили из клуба. Они ушли, и сразу сделалось тихо, пусто. В открытую дверь сырая ночь подула холодом, закружила под скамейками рваные билеты. Алеша услыхал, как тревожно шумели невидимые деревья. Далеко, тоненько и как-то неумело тявкала собачонка, словно лаял мальчишка, дразня щенка.
Актеры поздравляли Северова, жали руку.
Глаза у него сияли, и ему хотелось сказать, что он любит всех…
«Оптимистическую трагедию» готовили к празднику Октябрьской революции.
Стол, накрытый малиновой скатертью, был очень длинный, за ним сидело много народу.
Скавронский облокотился, прикрыл глаза руками, чтобы не отвлекаться, слушал актеров.
Северов нервничал, видя, как режиссер после каждой его сцены что-то записывал. Алеша мучался: никак не мог почувствовать характер финна Вайнонена.
Юлинька уже знала роль наизусть и репетировала довольно уверенно. Все ей в пьесе нравилось. Особенно восхищал Караванов, который играл Алексея — Балтийского флота матроса первой статьи.
Алексей хочет понять цель революции. Он мечется, он ищет. У него бурная, как шквал, натура. Пусть анархист, но он случайный анархист. Он жаждет понять, нет, больше, он жаждет мысленно увидеть ту жизнь, к которой ведет революция. Не поймет — не поверит, а не поверит — погибнет. Но для него все еще смутно. И настоящее и будущее клубится грозовой тучей. И поэтому его захлестывает злость, тоска, отчаянье.
Таким Караванов создавал своего Алексея.
Моряк — широкоплечий, в полосатой тельняшке. Когда идет, правое плечо слегка выставлено, словно у грузчика. Большие крестьянские руки. Крупное лицо постоянно озаряют тревожные вопросы: «Как? Почему? Где? Что?»
Сильный, глубокий голос то переходит в яростный крик, то звучит вдумчиво, мягко.
Созданный образ был отмечен обаянием, умом, наполнен неудержимым темпераментом.
Юлинька поймала себя на том, что сравнивает Алешу с Каравановым, и Северов рядом с ним кажется ей бледным и мелким.
Часто Караванов смотрел на Юлиньку пристальными, веселыми глазами, точно знал про нее что-то забавное и очень милое, только не хотел говорить об этом. Она слегка краснела, поправляла прядки на лбу. Но тут же хмурилась, делала строгое лицо.
Потом был разбор репетиции. Скавронский бросил на Юлиньку задумчивый взгляд и лишь сказал: «Все правильно. Верю», а Северову долго толковал, что нужно делать.
Разошлись поздно. Расстроенный Алеша ушел с Касаткиным в ресторан пить пиво.
Полыхалова подняла шум у расписания: Неженцев не указал точно, когда ей приходить на репетицию. Она злилась оттого, что ей дали играть маленькую роль старухи, тогда как, по ее убеждению, она должна играть комиссара.
— Шарашкина контора, а не театр! — кричала она, побагровев.
Юлинька морщилась:
— Роман Сергеевич, как вы такое допускаете в театре?
— Это бессмертные закулисные фигуры, — безнадежно сказал Караванов, подавая пальто.
— Вот на собрании пропесочить ее, тогда будет потише!
— Не поможет, — равнодушно возразил Караванов.
Шли медленно. Из близкой тайги пахло на весь город опавшим листом, хвоей, речкой. В лицо сыпалась водяная пыль. Ветер не спеша проплывал во мраке. В черном небе было оживленнее, чем на земле. Стая за стаей снималась с похолодевших ясных озер среди буреломин тайги. Летели гуси, журавли, утки. Они тревожно кричали, кого-то не могли найти. А Караванову казалось, что это в душе его кто-то кричит и кричит по-осеннему тревожно.
— Я актеров делю на две группы, — застегивая шуршащий плащ, говорил он с иронией. — Одни играют на сцене, другие в жизни. У первых в руках крупный козырь: дарование; у вторых — довольно одномастная мелочь: шестерка самолюбия, семерка эгоизма, восьмерка спеси. С мелочью играть нелегко. Приходится жульничать. Бог с ними! Их не так уж много.
Он говорил, а главным для него сейчас было — непроглядное небо, полное зовов и шума крыльев.
— В руку воткнется одна занозка и то измучает, если не вытащишь! — спорила Юлинька.