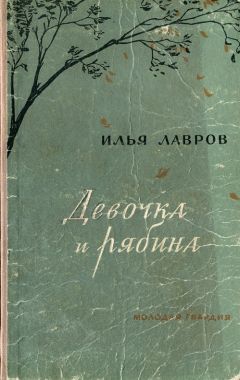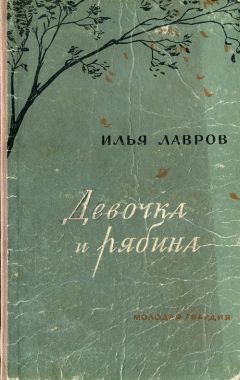— Мещане… пусть их грызутся… Мне надоело с ними возиться… Такие всё себе, всё для себя, — голос Караванова звучал добродушно и устало. Ему хотелось говорить совсем о другом.
— А вы, видать, ко многому уже привыкли… — Юлинька задумчиво глядела на него.
— Просто поумнел. Иглой колодец не выроешь.
А сам думал: «Улетают, улетают…»
— Ну, если смириться с безобразием, по-вашему, значит поумнеть, то, извините, для меня глупость приятнее такого ума! — горячилась Юлинька. — Мне больше по душе японская поговорка: «Если твой меч короток — удлини его шагом вперед!»
— ну, ну, давайте, давайте! — засмеялся Караванов. — Нигде не встретишь столько чудаков, как в театре.
А другая мысль не оставляла: «Вот так бы идти, идти, всю жизнь идти… А может быть, прилетают, прилетают?»
— Вы скептик?
— Кройте, кройте! Сам такой был горячий. Молодость, молодость… А птицы летят и летят. Куда? Зачем? Кого зовут? Тысячи километров машут крыльями!
Юлинька молчала, слушая, как неслись невидимые стаи, уже отрешенные от родных гнездовий, в пустоте которых ветер шевелил оставленные перья.
Караванову стало неприятно: Юлиньке не понравились его мысли. И опять он услыхал в душе: кричит кто-то, зовет кого-то…
И, как бы оправдываясь, он стал рассказывать о своем прошлом.
Перед Юлинькой зашумели клены над старым домиком в Энгельсе. Плеснулась Волга. Извивались на воде солнечные змеи. Белый пароходик тарахтит, идет к Саратову. Стеклянная рубка полна синего дыма. Бравый седоусый капитан, в белом кителе и в белой фуражке, крутит штурвал, сосет трубку. Это отец Ромки Караванова.
С капитанского мостика Ромка сигналит белым флагом, встречный пароход отвечает ему гудком. На плывущем бревне сидят чайки. На палубе много людей, у их ног бидоны с молоком, мешки с золотистыми дынями и полосатыми арбузами.
Пароходик пахнет, как дыня…
Скрипят весла в протоке меж островов. Горсть пшенной каши для приманки рыбы булькает в алую от зари воду. Лес с высокого берега свесил ветви. По вырытому спуску две лошади втаскивают наверх мокрые бревна. Ромка сложил руки над головой и вонзился в прохладную воду… Хватается за плот. Липнет сосновая смола к пальцам. Сквозь прозрачные струи тело Ромки кажется то длинным и тонким, то коротким и толстым…
Палубы, пристани, лодки, плоты, избушки бакенщиков, капитанские мостики — здесь проходило его детство…
Матросы, рыбаки, грузчики, капитаны — они окружали его в детстве…
Отец набивает трубку, следит, а Роман крутит штурвал, ведет пароходик по извилистым протокам. Мечтает: придет время — окончит речной техникум, встанет на капитанский мостик большого парохода, помчится из Саратова в Астрахань.
Но однажды на палубе появились актеры. Они все лето плавали из Энгельса в саратовские клубы. Актеры брали с собой Романа. Он смотрел спектакли. Неуклюжий, приземистый, хмуро и восхищенно глядел из-за кулис на красавицу Нону. Высокая, в золотистом парике, с розовым-лицом, она выходила на сцену и кланялась. Зрители хлопали, билетерша несла охапку цветов.
Ночью Роман сидел рядом с Ноной на темной палубе и бережно держал ее чемоданчик. Пахло из чьей-то сумки укропом. На плывущем плоту пылал костер. Багровая луна макала бок в воду. Нона смотрела на нее, о чем-то вздыхая, а Роман смотрел на Нону, боясь дохнуть.
В такую ночь он понял, что не может жить без нее, без этих спектаклей.
Ему было пятнадцать, и он пошел в восьмой класс. Окончив десятилетку, подал заявление в театральную студию. Отец стучал кулаком по штурвалу:
— Может, еще за трешку будешь глотать шпагу?! Галах!
— Смотри, на мель посадишь посудину, — хватался Роман за штурвал.
— Мои мели позади! Я жизнь свою отплавал! — хрипло кричал старый капитан. — А вот ты, как пить дать, сядешь на мель!
Окончив студию, бросился на актерские дороги. Работал на Волге, в Сибири, в Крыму, в Казахстане. В Барнауле встретился с Ноной. Ей было тридцать шесть, ему — двадцать пять. Краса ее слегка поблекла. Нона только что разошлась с мужем. Роман, по-мужицки упрямый и терпеливый, весь год ходил по пятам. Они поженились. Избалованная Нона заставляла готовить обед, мыть пол — берегла свои руки.
Потом Романа призвали в армию. Через два месяца пришло письмо: «Ромуля, не вешай нос! Моя молодость — вот-вот и фюйть! Бабий век — сорак лет. Не могу же я ждать тебя. Выхожу замуш. Привет!»
— Дура! — сказал он тогда.
И с тех пор жил один. Тосковал о Волге. Снились мокрые плоты, чайки на плывущем бревне, печальные пароходные гудки. Просыпался, а в ушах все звучал рев парохода. Натягивая Чиненые сапоги, брезентовый плащ, брал удочки и уходил рыбачить, вспоминая палубу, пахнущую дынями и пробками от спасательных поясов.
Работал в театре хорошо и, получив за роли Кутузова и Ушакова звание Заслуженного артиста, он все же не переставал жалеть, что не стал капитаном.
…Все это ярко ожило перед Юлинькой и приоткрыло прошлую жизнь Караванова. В коридоре, когда прощались, она, улыбаясь, подала ему руку и тепло посмотрела в глаза.
Уже за полночь. Шумно вздыхая, Караванов ворочался на широкой кровати. Топить еще не начали, в комнате холодно. И стало бы совсем одиноко, если бы на шкуре не посапывал рыжий Гарун.
Сегодня день рождения. В далекой юности день этот радовал. А за последние годы он сильно сдал душой. И совсем недавно вдруг заметил, что ни о чем не мечтает, ничего не ждет. Получив роль, не волнуется. Театр стал обычным учреждением, где он работает, но может и не работать. Не все ли равно, где получать зарплату? Для некоторых театр — кормушка: одни насыщают желудок, другие — тщеславие.
Земля для него — дорога, города — вокзалы, а жизнь в них — пересадка. По этой бесконечной дороге не к кому приезжать и некуда возвращаться. Судьба-проводница не зажигает фонарь, и в темноте не разберешь — где твой чемодан и есть ли что-нибудь в нем. А может быть, он пуст? Горсточка разочарований не такой уж объемистый груз для чемодана.
Горечь Караванов прикрывал иронией, подчеркнутым равнодушием. Но вот сегодняшний разговор с Юлинькой почему-то растревожил. Словно сделал что-то нехорошее и теперь не то раскаивался, не то чего-то стыдился. Иногда ловил себя на том, что начинает торопливо доискиваться — в чем же он виноват?
Да еще пришла эта беспокойная грусть. Против нее даже ирония бессильна.
Караванов протянул в темноте руку к столику, выпил стакан портвейна, закурил.
Напротив кровати вырисовывалось большое, полное мрака окно. С Яблоневого хребта мчался ветер, уже пахнущий снегом, и окно все время почему-то слегка гудело. Это наполняло душу еще большей тревогой. В окне торчала вершина тополя в лохмотьях редкой листвы. Ветки скребли по стеклу: «ширк, ширк» — словно дворник мел асфальт.
Мимо дверей четко простучали каблучки. Звякнуло ведро. Караванов приподнялся в кровати.
Легкие шаги смолкли. Хлопнуло. Мысленно увидел дверь, обитую голубой клеенкой с белыми тесемками крест-накрест.
Сунул ноги в холодные туфли, встал, набросил на плечи пальто и выпил еще портвейна. Подошел к окну. В разгоряченное лицо повеял ветерок. Огонек папироски отражался в черном стекле.
Опять застучали быстрые каблучки.
Караванов подошел к двери, перестал дышать. Каблучки отстукивали уже у дверей:, «цок-цок-цок». Караванову даже почудился шорох платья.
Ходил по комнате. Незавязанные шнурки волочились по полу, еле слышно стегали по туфлям. Провел ладонью по крупной голове и тихо запел низким басом:
На севере диком стоит одиноко….
Печальны и странны были эти звуки среди ночи в темной комнате.
«Ширк, ширк» — мел за окном невидимый дворник.
Где-то на столбе качалась лампочка, и слабые блики ползали на потолке, на стене.
— Ну, поднимись, лентяй, — горячо зашептал Караванов, приседая около Гаруна и гладя Длинные бархатные уши, — у хозяина кошки на душе скребут. Не завыть ли нам, брат, с тобой?
Гарун зевнул, ткнулся влажным носом. Хозяин прижал его к груди, но тут же оттолкнул:
— Какая чушь!
Поднялся. Поразила мысль, что у него нет друзей. Вот уже два года Гарун был его постоянным спутником. Разговаривал с ним о самом задушевном. Приводил на репетиции. В зале бросал на кресло пальто, мехом вверх, Гарун садился на него и смотрел на сцену умными глазами. «Ну, что скажешь, брат? — обращался к нему хозяин. — Фальшивит актер-то? Не смотри — взвоешь!»
— Экая пошлость, — шепнул Караванов.
Гарун подошел, бросил лапы на грудь.
— На место! — рассердился Роман Сергеевич.
«Туп, туп» — звучали шаги, «ширк, ширк» — мели ветви, «чик, чик» — стегали шнурки металлическими кончиками по туфлям.
Прекрасная пальма растет…
Караванов замолчал, подумал и снова пропел: