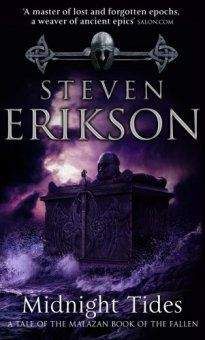— Как вам понравился наш цех, Дина Платоновна? — Гребенщиков явно переводил разговор на другую тему.
— Здание великолепное, оборудование — еще лучше. Люди? Разные люди. Видите ли… Какие-то они примятые.
Гребенщикова даже повело от столь дерзкой прямоты. Но произнесено это было с такой легкостью, таким безыскусственно-невинным тоном, что возмутиться было бы глупо. К тому же Лагутина вела себя настолько независимо, что попросту сбивала с толку. Умудренный жизнью, Гребенщиков решил даже, что ее кто-то надежно опекает из власть имущих. «Ну и бабенка, прямо коробка с сюрпризами, — подумал не без раздражения. — Рыщет по цеху, ни за советами, ни за установками не пришла». Решил сделать ход конем.
— Дина Платоновна, я могу подбросить благодарный материал для первой вашей статьи.
— Буду рада, — бесхитростно сказала Лагутина и мысленно отметила, что Гребенщиков умеет маневрировать.
— Вступитесь за нас, грешных. Забыли металлургов. Незаслуженно забыли. Надо восстановить былой порядок: каждые три месяца — итоги, знамена передовым, премии. Но прежде всего — гласность. — Заметив, что слова эти проскользнули мимо внимания Лагутиной, зашел с другой стороны. — Вы, разумеется, сделаете это по-своему, пропустите через призму своего восприятия, через свой, так сказать, магический кристалл.
«Знаешь ли ты, что я вижу тебя насквозь? — подумала Лагутина. — Переключаешь внимание, отводишь от себя огонь». Решила остудить Гребенщикова.
— У меня не очень получаются статьи общего характера.
— Вы, чувствую, мастер разноса. Не так ли? Но, ей-богу, это уже выходит из моды. Для чего повышать людям кровяное давление?
«Ну и фарисеи. Упрекает в том, в чем сам повинен», — хотелось сказать Лагутиной, но она удержала фразу на кончике языка. Повернула разговор:
— Андрей Леонидович, вы физическим трудом когда-нибудь занимались или после института прямо в начальники угодили?
— Странно, что это вас интересует.
— Почему вы так безучастно относитесь к труду разливщиков? Мне кажется, что каждый, кто подержался за ручку стопора, должен думать о том, как облегчить их участь. И если вас она не беспокоит…
— …то не плоть от плоти… Но бывает иначе, Дина Платоновна: сам натер мозоли, пусть и другие…
— Так думает худшая категория рода человеческого. Лучшая ведет себя иначе — старается избавить других от тех бед, которым подвергалась сама.
Гребенщиков скорбно вздохнул. Нет, эта корреспондентка не походила на своих соратников по перу. Но, черт побери, откуда у нее такая независимость? Это что, от духовного богатства, от бескорыстного служения идее пли полное пренебрежение опасностями профессии? А может, просто уверенность в себе красивой женщины? И как от нее отделаться поприличнее? Или, наоборот, заарканить?
— Да, прямо с вузовской скамьи — в начальники, — запоздало признался он.
— Тогда всё понятно. Если сам не побывал в этой роли, да еще нет элементарной любви к человеку, — ведь нет, Андрей Леонидович, нет, — тогда можно жить спокойно.
Гребенщиков долго подбирал ответную фразу. Вежливую по форме и в то же время убийственную. Но злость тормозила остроту соображения, отупляла.
— Со мной никто не позволял себе разговаривать подобным образом, — только и произнес он.
— И это очень прискорбно. Иногда человека так важно остановить вовремя. Чтобы не разнесло, как двигатель с испортившимся регулятором оборотов. — Лагутина сказала это резко, сознавая, что только так может пробить скорлупу самоуверенности.
Серафима Гавриловича словно подменили, Он замкнулся, ни с кем не разговаривал, домой ходил один. Но работал как одержимый. Дрался за каждую минуту. Застопорилось что-то — и он принимался крошить всех, кто подворачивался под руку. Больше других доставалось сыну. С ним он совсем перестал церемониться и совершенно вышел из повиновения.
Это быстро надоело Рудаеву, и оп решил обуздать отца. Закатил ему выговор за брань на площадке, а через три дня еще один — строгий — захватил чужой состав с металлоломом. Серафим Гаврилович немного угомонился и ругался теперь тихо, хотя сохранил весь словесный набор в неприкосновенности.
Гребенщиков выговора не снял, но на каждом рапорте для контраста с Рудаевым подчеркнуто хвалил сталевара, а за особо удачные плавки премировал из своего фонда.
Его было за что хвалить. Он вел печь так форсированно, как никто, и каждую смену выдавал металла на пятнадцать — двадцать тонн больше, чем остальные сталевары, — изо всех сил старался доказать, что не зря принял предложение начальника. Каждый раз в заводской многотиражке в рубрике «Лучшие из лучших» неизменно упоминался Серафим Гаврилович Рудаев.
За взлетом своего приятеля с восхищением следил Степан Пискарев. Он даже пытался пойти на примирение с Серафимом Гавриловичем, но тот держался отчужденно и пресекал всякие попытки сблизиться. Один раз даже попрекнул Пискарева:
— Чего ты ко мне, Степан, липнешь? Я — «шкура», и нечего со мной якшаться. Надо быть принципиальным.
Пискарев открыл от удивления рот. Кому-кому, считал он, а Серафиму уж никак не пристало говорить о принципиальности.
Единственный человек, с которым Серафим Гаврилович общался, был, как ни странно, Сенин. Нет-нет, улучив минуту, прибежит Женя на третью печь, посмотрит, как идет процесс, иногда отрегулирует количество кислорода. Такое душевное благородство трогало Серафима Гавриловича. Мог бы парень вознегодовать на него, вконец обозлиться, так нет, еще заботу проявляет.
Никогда до сих пор не испытывал Серафим Гаврилович такого наслаждения от работы. Не успеешь сделать завалку, а металлолом в печи уже плавится — струя газа, активизируемая кислородом, режет металл, как автогенная горелка. А зальешь жидкий чугун в печь — и развивается такая температура и плавление идет так быстро, что только гляди в оба.
Подручные сначала косились на нежелательного пришельца, огрызались, вздыхали по Сенину, но постепенно пообвыкли и включились в бешеный темп работы, который навязал им Серафим Гаврилович. Этому немало способствовал и Сенин.
— Не подведите старика, — внушал он подручным. — Лебединую песню поет.
Пристально следил за третьей печью Гребенщиков. Особенно в те дни, когда работал Серафим Гаврилович. Расспросит что да как, постоит, понаблюдает. Только, к его удивлению, облагодетельствованный сталевар держался отчужденно, отвечал односложно и всем своим видом демонстрировал, что внимание начальника ему в тягость.
Гребенщиков понимал, что задуманный им маневр удался только наполовину — от единомышленников он Серафима Гавриловича оторвал, но к себе не приблизил. А молодой Рудаев даже вырос в глазах людей. «Отогрел змеёныша на своей груди, — корил себя Гребенщиков. — Вот уж непреложная истина: ни одно доброе дело не остается безнаказанным».
Сегодня Серафим Гаврилович был особенно немногословным. Буркнул начальнику, что все в порядке, и заторопился к пульту управления. Гребенщиков тоже зашел на пульт, решив, что у сталевара что-то не заладилось, но никаких тревожных отклонений по приборам не обнаружил. Только расход газа был необычно высок.
«Слишком горячо ведет печь старый черт». Гребенщиков хотел сказать об этом сталевару, но тот уже помчался назад. «Ишь, решил на поводке погонять», — подумал беззлобно Гребенщиков, возвращаясь к печи. По-прежнему все в порядке. Хорошо прогретый металлолом потерял свои резкие очертания и плакал расплавленными искрящимися каплями.
Через полчаса Гребенщиков снова появился на площадке. Чугун был уже залит, и поверхность ванны бурлила, как море у скалистых берегов.
Прозвучал сигнал предупреждения — отойдите, и тотчас заработала автоматика. Пламя в печи исчезло, но в следующий миг засверкало с другой стороны.
Сталевара у печи не было. Поискав глазами, Гребенщиков увидел его рядом с начальником смены. Они о чем-то заговорщицки шептались. «Похоже, опять на рекорд идет, — решил Гребенщиков. — Надо понаблюдать».
В кабинете он забыл о своем намерении. На столе лежал свежий номер «Приморского рабочего» со статьей Лагутиной «Протяни руку — возьми сокровища». Пробежал ее глазами, отыскивая свою фамилию. Нет. Статья затрагивала только доменщиков.
Простое и ясное изложение. Мужской почерк. Без охов, без ахов, без упреков, без восклицательных знаков. Но вопросительные знаки есть. Почему на других заводах в шлаковых желобах сделаны углубления, в которых оседают запутавшиеся частички чугуна? Ведь их после каждого выпуска набирается около тонны. Много это или мало? Много. На каждой печи восемь выпусков в сутки, иными словами, восемь тонн. Почему на других заводах наплавляют трущиеся детали сверхтвердым сплавом? Неужели миллион рублей экономии не стоит лишних хлопот? Так факт за фактом. Философских рассуждений нет, философия в подборе доводов. Выводы делайте самостоятельно. А выводы эти грустные: внутренние резервы, даже самые очевидные, далеко не используются. Налицо равнодушное отношение к дополнительным тоннам и миллионам. Но статья не сухая. То здесь, то там ее оживляет диалог — что отвечали на ее вопросы руководители цеха, как отвечали.