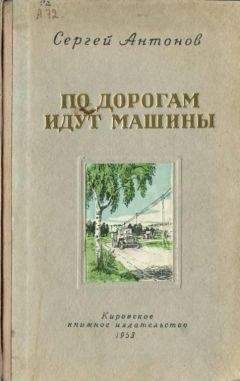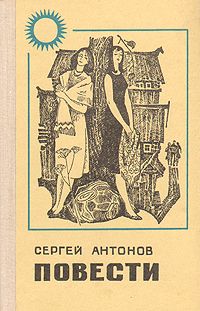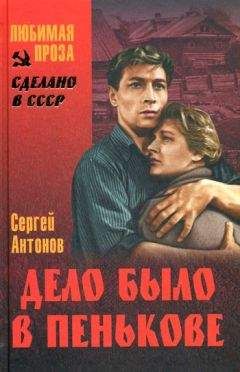— Не знаю, — отвечаю я и поворачиваюсь на другой бок.
— Ты только не сердись, Леша, — сказала она. — Пелагея Степановна приехала.
— Зачем?
— Ульи обратно забрать. Ругается.
— А ты не давай! Федор Никитич хозяин.
— И Федор Никитич с ней здесь, на поле.
— Ну и что?..
— Что же. Он грузит, а она командует.
— Эти ульи, кажется, Василий Иванович — шофер — привез. Сходи к нему, пусть он разберется.
— И Василий Иванович там. Ничего не помогает.
Я хотел было вскочить, но Дуська нагнулась и прислонила к моей щеке свою холодную щеку. Потом сказала на ухо: «Хороший ты, Леша, красивый ты, да разве можно так-то, при всех…» и выбегла на улицу, чуть маму в дверях с ног не сбила.
Я сел на кровати. «Наконец-то, думаю, ей моя физиономия приглянулась». Мама вошла с подойником, поглядела на меня и встала как вкопанная. «Что это с тобой, Лексей?» сказала она. «А что?» — «Посмотри-ка в зеркало…» Я глянул и ахнул. Вся морда перекошена. Пчелы ночью перекусали. Губа вздулась, под глазом вот этакая шишка голубая, ровно чернилами вымазан… Дуська, увидев такую морду, сразу, конечно, догадалась, кто пчел привез, а ничего не сказала. Хитрая. Ну, умылся, пошел на поле. Федор Никитич со своими пчелами уже уехал. Девчата стоят, руками разводят. Но скоро вышли из положения. Надумали они искусственно опылять гречку — веревками. Навешали на веревку тряпок, взялись за концы и тянут тряпки по цвету. Опыление получается не хуже, чем от пчел… Да тебе слушать неинтересно про эту нашу сельскохозяйственную технику…
Алексей умолкает и начинает аккуратно собирать яичную скорлупу в бумагу. Солнце уже высоко, и снова видно трубу кирпичного завода, розовую, как очищенная морковка, и словно вычерченную на небе мачту высоковольтной передачи. Река вздувается…
— Вот она, и машина идет, Васька из «Первой пятилетки» едет, — говорит Алексей. Я еще ничего не слышу, но радостно начинаю собираться. Вскоре действительно подходит машина. В кабинке, к сожалению, два человека. Я гружу рейки, треногу, теодолит и, попрощавшись с Алексеем, забираюсь в кузов. Мы едем весенними полями и рощами, и я долго думаю о новой красоте человеческой…
1949.
У насыпи, возле семафора, Николка, Петя и остроносая девочка Люся, коротая время, играли в чижика…
Пете было не больше тринадцати лет, но сильная воля уже проглядывала в его узких серых глазах. Ребята его слушались и заметно побаивались. Играл он от скуки, небрежно забрасывал заостренную с двух концов палочку толстыми, успевшими огрубеть от работы пальцами в квадрат, начерченный на земле, бил, почти не глядя, но все у него получалось ловко и точно.
Люся — левша — играла не хуже мальчиков. Она умела драться, и на обоих ее коленях виднелись болячки, похожие на изюмины.
Николка играл с полной серьезностью и дотошно следил за правилами. Он стоял, настороженно приоткрыв рот, и все время выкрикивал: «Люська, чего ты три шага шагаешь! Петро, гляди, она камушек подкладывает! Ага, промахнулась: второй раз нельзя!»
Немного подальше лохматый парнишка пытался развязать зубами затянутый узлом шнурок своего левого ботинка. Он давно был погружен в это занятие и ни с кем не разговаривал. А еще дальше, на откосе насыпи, почти до самой станции виднелись группы мальчиков и девочек, собравшихся по три, по четыре человека. Некоторые из них, так же как и Николка, первый раз в эту весну вывели на пастьбу коз, а многие пришли просто так — посидеть да побеседовать.
Несколько дней тому назад сошел снег. Маленькие полянки яркой, новорожденной травки, не тронутые еще ни пылью, ни суховеями, блестели на рыжей сырой земле. Козлята с розовыми копытами радостно прыгали вверх и вниз по откосу.
Тяжелые облака, сгрудившись, неподвижно висели над горизонтом, заслоняя солнце, и хотя до вечера было еще далеко, над плоской, пустой равниной, кое-где покрытой кустарником, над извилистой проселочной дорогой, над крышами деревни, над кирпичным зданием станции стыли серые туманные сумерки. Все стало расплывчатым и неясным, как в непогоду: возле станции смутно чернело дерево, у горизонта едва виднелась лиловая покатая горушка, за поворотом проселка желтело что-то похожее на кучи песка.
На шлагбауме переезда через железную дорогу сторожиха зажгла фонарь, и от этого казалось еще сумрачней и туманней.
— Глядите-ка, уже домой пора, а Помидор только еще пасти ведет, — сказала Люся, замахиваясь набивалкой.
К насыпи направлялся толстый коротконогий мальчик лет шести в большой железнодорожной фуражке. Полные щеки его были до того красны, будто он целый день просидел у открытой печки. Мальчик пятился к насыпи и с трудом тянул козу. Коза мотала головой и, приседая, упиралась.
— Уматывай, Помидор, отсюда! — закричала Люся. — Здесь наши, колхозные, пасут. Ваша эмтеэс вон там пасет!
— Эта земля не ваша, — пыхтя, отвечал Помидор. — Это земля железнодорожная. Вот пойду на станцию, дяде скажу, он вас всех отсюдова…
— Смотри, не уйдешь — как пульну, — и Люся, неумело закинув руку за шею, замахнулась палочкой.
— Попробуй, пульни только, попробуй… — торопливо заговорил Помидор и попятился. — Я тебе так пульну, что ты… что ты не захочешь… — и он неожиданно заревел.
— Иди, не бойся! — крикнул ему Петя. — Паси где хочешь. А ты, Люська, его не задевай. Всем травы хватит…
— Да, хватит! Вовсе негде скотину пасти стало. Скоро на самые рельсы загонят. Вчерась Евгения Федоровна скатерть повесила сушить, а Ефимкина Машка угол у скатерти начисто сжевала. Евгения Федоровна выскочила, руки в мыле, кричит: «Ефим, Ефим, иди-ка сюда, я тебе уши повытягиваю», а он и идет, ровно она ему конфетину посулила.
— И лгешь все ты, — сказал парнишка, который развязывал зубами шнурок на ботинке. — А я-то и не пошел вовсе…
— Нет, пошел, сама видала, пошел… Всю землю до самых огородов на клетки поделили.
— Это травополье, — сказал Петя. — От травополья хлебушка больше соберем.
— Все равно, как в прошлый год, суховей спалит.
— А чтобы суховей не спалил — деревья садим. Понятно? И пруд выкопали для этого… Евгения Федоровна, когда хлеба погорели, в библиотеку спряталась да плакала, а ты с тридцать девятого года, а ничего не понимаешь. И играть с тобой неохота…
Петя далеко закинул набивалку и сел.
— Сегодня папа приеде-ет, — сказал Помидор, растягивая слова, — машину на поезде привезе-ет. Теперь в нашем эмтеэсе много машин будет, а у вас, в «Светлом пути», — две только, а в «Заре» — так и вовсе одна…
— Слышь-ка, Петро, — начал Николка таинственным голосом. — Вечор я надумал такую машину, которой ни бензина, ни автола — ничего не надо. И мотора не надо: сама будет бегать.
— И не побежит без мотора машина никакая, — заметил парнишка, сняв, наконец, ботинок и вытряхивая из него песок.
— Побежит. Был бы у меня магнит, я бы ее сам сделал. Вот слушай. Видел я картинку: сидит верхом на осле турок и держит впереди себя удилище, а на конце лески привязана морковка. Морковка болтается у осла под носом. Он хочет морковку достать и идет вперед. А морковка едет вместе с туркой.
— Называется, надумал машину!.. — сказал Ефим.
— Постой. Вот если взять большенный магнит да приладить спереди к железной машине. Машина-то станет к нему притягиваться, покатится, а магнит вместе с ней вперед поедет. А?
— Ничего не получится, — равнодушно сказал Ефим.
— Почему?
— Потому что будет твою машину не остановить…
— Ты это брось, — прервал Ефима Петя. — Как это так, не остановить? Тут все дело в магните. Если есть такие громадные магниты, так, знаешь, какая от этой машины польза будет! Надо тебе, Николка, письмо составить да в район, товарищу Гусеву. Он это дело сразу в ход пустит…
За спинами ребят стала звенеть и содрогаться проволока, укрепленная на маленьких столбиках. Крыло семафора поднялось.
— Товарняку путь дали… — сказал Помидор. — Сейчас папа на этом товарняке машину для нашего эмтеэса привезет…
— Давай письмо составлять, — продолжал Петя. — Бумага есть? — Николка похлопал по карманам и достал блокнот.
— Чего писать-то? — спросил он, нацеливаясь карандашом.
— Пиши: «Уважающий товарищ Гусев».
— Чего это такое: «Уважающий»?
— Пиши. Всегда так пишут. Да скорее. Поезд придет — машинисту передадим, он в районе отдаст начальнику станции. А начальник — товарищу Гусеву.
— Не передаст машинист Гусеву, — сказал Ефим.
— Передаст. Наш председатель сколько раз так письма пересылал.
Облака разошлись, и на землю хлынули лучи вечернего солнца. Все засияло, потеплело, осветилось чистым закатным светом.
Стало видно, что возле станции не одно, а два дерева, одно метрах в двадцати позади другого, две осины с прошлогодними гнездами на голых сучьях, похожими на черные кубанки. То, что несколько минут назад представлялось лиловой покатой горушкой, оказалось прозрачной рощицей, еще не одетой листвой, а вдали, у проселка, желтели не кучи песка, а неглубокие ямы-карьеры, вырытые дорожниками.