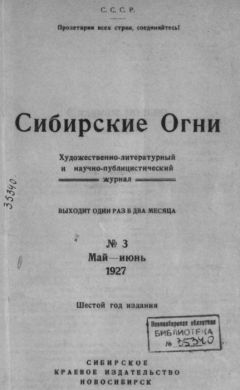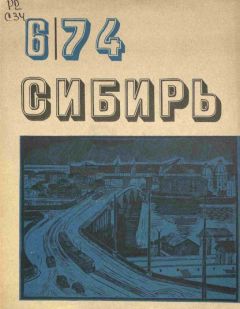Скорбно и обреченно сжавшись, Василиса слушала и не перебивала.
Но иногда, в самый разгар рассказа, с голбчика снова звучал парнишкин голос:
— Ты чо это?!.. Людям спать охота, а ты гудишь... Спи, тятька...
Архип обрывал рассказ и, посапывая и ворча, зарывался в одеяло.
— Ну, ладно... — пыхтел он. — Сплю я, хозяин!.. Ладно...
28.
Павел и Ксения приходят в сельсовет. Афанасий вглядывается в Павла и ворчит. Павел проходит в присутстие к столу, за которым шебаршит бумагами Егор Никанорыч. Сбоку, за другим столом молча листает какую-то книгу секретарь. Павел останавливается перед председателем:
— Здравствуйте! — говорит он.
— Здравствуйте! — тянет за ним Ксения.
Председатель кивает головой и глядит неприветливо:
— По какому делу?
— Да все насчет прежнего, — застенчиво, но ласково отвечает Ксения. — Все насчет прежнего, Егор Никанорыч.
— Делов у меня много, — ворчит председатель. — Обчество большое, где мне упомнить?
Секретарь откладывает книгу в сторону, складывает руки на столе и глядит то на Павла, то на Ксению.
— Это, значит, касательно надела? — ухмыляется он. — Семейный переворот, можно сказать, гражданки Коненкиной? А?
Павел оборачивается к нему и примирительно отвечает:
— В дом я вошел ко Ксении Коненкиной... Расширяться думаем. Какое будет решение насчет надела? Подавали мы заявление...
Егор Никанорыч шебаршит бумагами: занят, мол, — и сбоку говорит секретарю:
— Объясни имя течение дела, Иван Петрович.
— Течение дела простое! — весело подхватывает секретарь и насмешливо смотрит на Ксению и Павла. — Надела вам не полагается.
— Почему?
— Как же так?
Ксения гневно продвигается ближе к столам, к председателю.
— Как же так, Егор Никанорыч? Я с моим клином куда денусь? Я что ли не работница? По какому же положению?
Секретарь усмехается и перегибается через стол:
— Тебе, Коненкина, беспокоиться зря не следует... Дело решенное... Взяла ты в дом чужого человека, не общественник он наш. Нам землю разбрасывать зря тоже не приходится...
— Нам обчеству земли нехватка, а не то, что чужим! — хмурится председатель.
— Я, что ли, чужая? — звенит обидою и гневом Ксеньин голос. — Я урожденная здешняя! У меня земля родительская. А теперь урезали мне пай безвинно. Я Павла в дом беру, он обчеству работник будет... Почему перечите?
— Работников у нас своих хватит, — загорается председатель. — В земле у нас нехватка, а ты чужих приваживаешь... Не может тебе обчество в етим потакать.
Ксения тяжело дышит. Лицо горит у нее. Пуще всего горит та сторона, где зияет шрам.
— Я себе вольна судьбу свою выбирать! — гневно говорит Ксения. — Обчеству какое дело до моей доли?
Секретарь насмешливо скалит зубы и хихикает.
— Обчеству, конечно, будто и нет никакого до этого дела. Но, между прочим, сказано уж председателем, что землю зря распёхивать не приходится, и добавить к этому нужно, что не каждого-всякого приходящего в общество примать следует... К примеру, вот и мужика твоего, Павла Гаврилова...
— На каком основании? — бледнея спрашивает Павел: — Я человек чистый.
— Как сказать, — пожимает плечами секретарь: — с одной стороны, если поглядеть, так, может быть, чистый, ну, а с другой — выходит и не так...
— Егор Никанорыч! — вскипает Ксения и порывается к председателю. — Что же это такое? Пошто вы над мужиком измываетесь? Он человек безвинный...
— Погоди, Ксения! — мягко отстраняет ее Павел. — Не горячись. За мной вины теперь никакой нет. Слышите, — обращается он к председателю и к секретарю, — я теперь вольный человек. Что было, то было. Зачем же две шкуры драть?
Егор Никанорыч отводит глаза в сторону и туго говорит:
— Двух шкур с тебя, человек, никто не дерет. Ну, а насчет того... касаемо земли и чтоб тебе приписаться к обчеству, то согласия нашего на то не может быть... Это, брат, как припечатано... Конечно, жалко Ксению, наша она, верхоеланская, доморощенная. А все-таки было бы тебе, Ксения, лучше глядеть, чтоб, значит, наперекор миру, обчеству не идти...
Ксения вспыхивает:
— Меня нечего жалеть! Не маленькая... А ежели так, то давайте мне бумагу, что отказываете. Словам не верю.
— Жаловаться хошь? — щурится Егор Никанорыч. — Жалься. Только не советую... Напрасно.
— Мое дело! — сухо отвечает Ксения.
Павел и Ксения выходят из присутствия. Афанасий, неуклюже прислонившись к притолке, лениво пропускает их мимо себя и ворчит:
— Зря!.. Совсем зря, Ксена, в гору скачешь... Супонь не выдоржит. Лопнет!..
— Молчи, Афанасий! — в сердцах обрывает его Ксения.
— Молчи не молчи, схамкают они тебя!.. Вишь, какие они горластые!.. Зря не шеборшись, баба!..
Не слушая его, выходит Ксения на крыльцо. За нею Павел. Павел нахлобучивает неловко шапку и смущенно крякает.
— Съедят они меня, — озабоченно говорит он. — Отступилась бы ты, Ксения!
— Я не отступлюсь!..
Лицо у Ксении гневно пылает.
29.
У крёстной, у Арины Васильевны, годы выели лучистый цвет в глазах. Под старушечьим, под темным, к самым бровям подвязанным платком, бабий ум, жизнью выутюженный, ворочает скупо и неподатливо привычные и медленные мысли.
Крёстная, Арина Васильевна, медленно, но надежно скопила в себе мудрость жизни. От просторных полевых дней, от длинных зимних ночей, от радости девической, от вдовства, от бездетности, от всех дней ее, медленно и мерно катящихся от паскотины к паскотине, от всего бытия ее пришла и осела эта мудрость. И был среди неописанных законов мудрости этой один первейший закон:
— А как люди? А что люди скажут?
Поэтому пока Ксения и Павел мытарятся с устроением жизни своей, пока ведут они нудные беседы в сельсовете, крёстная обегает соседей, подружек своих, таких же вот, как она, с такими же погасшими глазами старух, слушает, впитывает в себя услышанное, огорчается, вздыхает, даже плачет.
А соседки собирают деревенские, нехитрые новости, сплетают молву, тычут ею Арине Васильевне в глаза, ранят ею:
— Мужики шибко на Ксенку твою злобятся! Ширится она, до земли добирается. Мужики говорят: она кою пору шлялась по чужим людям незнамо где, а теперь пай себе хороший требовает, это не порядок!..
— И ешо, девонька: парня, говорят, прикормила себе, а парень-то беззаконный, в белых войсках воевал. Таких, сказывают, всех скрозь пристреливали, а он уцелел. Нехорошо, мол, может в уезде дурная слава про наше село пойти... Не даром тот-то приезжал, который оногдысь, комиссар, от Ксенки-то откачнулся, парня ее увидав... Ох, плохо! Плохо, девка, крестница твоя поступает. Не по правилу... С миром шуметь собирается... А у мира и то сколь суеты с камунистами да с камиссарами...
— Ей бы, Васильевна, смириться бы... Отпустила бы она мужика-то, Павла. Разве не нашла бы она своей судьбы поближе где?..
— Это ничо, что лицо порченное у нее. Кои мужики есть, что и не глядят, какая баба: лишь бы хозяйка была да покорливая...
— Ну, Ксенка-то как раз и не покорливая!..
Арина Васильевна слушает, вздыхает и огорчается:
— Какая же людям забота, что девка судьбу свою приглядела? Никого-то они не трогают, никому-то поперек дороги не стоят... Ну, дали бы пай хрестьянский, пущай бы робят... Какая кому беда?..
— Беда не беда, а, вишь, говорят: зачем землю в чужие руки отдавать, когда ее своим-то в волю не хватает?
— А мы разве чужие? — негодует Арина Васильевна.
— Про вас, Васильевна, речи нет. А вот мужик-то, — он, конечно, чужой, в роде самохода.
— Он обчеству ничем не заслужил, чтоб на землю садиться.
— Он, бать, заслужит! — у Арины Васильевны вспыхивает надежда. — Он, девоньки, тихий да обходительный. Он заслужит.
— Ну, это еще когды будет!..
И кто-то постарше, мудрее других, покрывая властно и решительно бабий, старушечий говор, обрывает сомнения Арины Васильевны, крёстной:
— Ты не хлопочи зря, Васильевна. Противу всех не пойдешь. Не по нутру мужикам Ксенкина затея... Ну, а наших мужиков не переспоришь. Не хлопочи! Лучше ты скажи им, девке твоей да тому, приходящему, скажи им прямо в глаза — пущай не перечат миру! Не дело это. Нехорошо!
Арина Васильевна уходит от соседей, от подружек, от старух расслабленных, прибитая сомнениями и тревогами.
Дома застает она настороженность и тишину.
Зимний теплый уют в избе. Густыми сливками закидал мороз стекла. От печи льется густой жар. Пахнет березовыми лучинами.
В зимнем уюте хорошо бы дремотно склоняться над какой-нибудь нетрудной домашней работой. Склоняться и слушать рокот спокойной и неторопливой речи.
А вот здесь стынет молчание. Павел сжался на лавке и молча ковыряет шилом рыжие ремни, чинит сбрую. Ксения перебирается в сундуке, и оба безмолвны.
И Арина Васильевна, удрученная этим безмолвием, с деланным оживлением рассыпается словами: