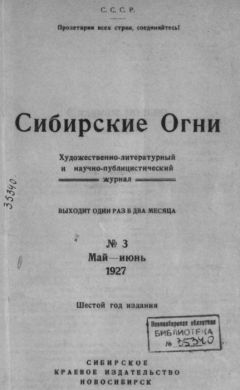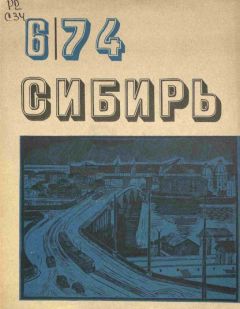И Арина Васильевна, удрученная этим безмолвием, с деланным оживлением рассыпается словами:
— У Воробьевских мужики из волости приехали, коня привели. Хороший конь. Пофартило людям, совсем сходно выменяли... Нынче, бают, скотину на хлеб напроходь меняют... В дальних-то местах отощал народ, последний хлеб доедат...
Крёстная сыплет словами, суетится и примечает: Павел ткнул шилом гнилую разлезающуюся кожу и прислушивается к словам и, видимо, собирается что-то сказать, но не говорит; Ксения, сжав губы, перебирает тряпье и ни на кого не глядит. И, может быть, вовсе и не слушает.
Не в силах остановиться, цепляясь за что-то, пугаясь молчания, Арина Васильевна, не думая, не соображая, выпаливает:
— Вот бы, Ксена, нам бы скотинку, выменять... лошадь бы...
Павел откладывает шило и ремень. Взглядывает на Арину Васильевну и отворачивается. Ксения отходит от сундука и грубо кричит:
— Ты, крёстна, чего по-напрасну сказки рассказываешь? Откуда это, на какие-такие достатки мены устраивать? Нас, может, скоро люди отсюда со свету сживут, а ты — ло-шадь-бы!.. вы-менять!.. Не люблю побасенок!.. Слышишь, не люблю!..
Арина Васильевна ошеломленно тянется вздрагивающей рукою к головному платку: закипают слезы, мутят глаза. Не слыхала она раньше от Ксении таких слов, такого голоса. Она всхлипывает и бормочет жалостливые, обиженные слова:
— Что же это ты, Ксеночка? Уж и слова сказать разве нельзя?.. Обидно мне...
— Обидно!?.. — Ксения выходит на средину избы, опаленная, гневная. Видно, долго она сдерживала в себе то, что вот сейчас вырвется из ее сердца.
— Обидно тебе?.. А мне каково?.. Меня пошто мытарят? Меня вот душат здесь, жизни моей не хотят ходу давать... У меня вся, можно сказать, душа изныла, все сердушко изболелось... А ты про то, что у людей, да как у людей... Людям что!? Им до нас делу никакого не должно быть, а они шипят!.. Слыхала, наверно, как обо мне по деревне высказывают... Эх!..
Внезапно Ксения умолкает, поворачивается и выходит из избы.
Арина Васильевна трет углом платка заплаканные глаза. Павел прибирает недочиненную сбрую и, пряча лицо от старухи, хмуро говорит:
— Видать, самое лучшее — собирать мне монатки... Сживут. И Ксению всю изломают...
Опуская конец платка, Арина Васильевна удивленно поворачивается к Павлу:
— Как же это так?.. Неужто уйдешь?..
— Не знаю... К тому, стало быть, подходит...
30.
Железная койка скрипит. Ножки у железной койки разъехались и с трудом держат беспокойную, неустойчивую тяжесть. Под потолком мечутся и вздрагивают сизые полотнища дыма. Коврижкин расставил ноги, крепко уперся ими в протертый пол и дымит махоркой. И вместе с клубками едучего дыма выдавливает из себя корявые слова.
Коврижкин смущен и волнуется и кипятится. А тот, кто лежит на зыбкой койке, посмеивается и следит за беспокойством, за смущением, за шумным смятением Коврижкина. Следит устало и снисходительно.
— Моя голова простая! — шумит Коврижкин. — Я тонкостей не знаю... всяких деликатесов!.. По мне — был в белой — значит сволочь, дави его под ноготь! Конечно, ежли своевременно делом не смыл с себя белоту... А тут ты мне, Протасов, загадку загинаешь. У меня и кружение происходит... кутерьма. Если на твои понятия встать, так, выходит, я женщину зря обидел?
— Конечно, зря.
— Обидно!.. — рванулся Коврижкин. — Я сгоряча завел тогда тарарам... Эх!.. Простосердечный я человек! Право дело!.. Прямо с плеча рублю. А тут нужно, говоришь, выдоржку иметь?.. Та-ак...
Махорочные лохмы пляшут под потолком. Протасов со скрипом переворачивается на кровати и свертывает папироску.
— Мне, Ефимыч, — тянет он, — прямо беда с тобою. Ты своих партизан-товарищей прежних растерял. Они у тебя, как у плохой наседки, разбрелись, рассыпались. И не видать их и не слыхать. Они, как вернулись с гражданского фронта, так большей частью неприспособленные к новой жизни оказались. И деревня на них косо поглядывает. А выходило, что через них на деревню, на крестьянство действовать можно. Ошибка вышла... Авторитета у них среди крестьян никакого... Совсем плевое дело... Тут, Ефимыч, и твоей ошибки не мало. Ты зачем их всех растерял? Надо бы с теми, кто покрепче да башковитей, связь прочную держать, к делу приспособить. А ты сколько времени думал, сунулся однажды да напутал, вместо того, чтоб дело налаживать...
— Да, может, еще и не в конец напутано? — смущенно оправдывается Коврижкин. — Знаешь, люди мы простые... Ну, что было сказано... от слова-то не окривеют... Конечно, свербит у меня между ребрами: зачем я бабенку- то, Ксению, ошарашил... Да и мужики. Хитрые они. Сразу разузнали мое такое настроение. Ухайдакают они парня... Да мне его и не жалко. А по твоей идеологии выходит, что из него может толк выйти... Ох, запутал ты меня совсем, Протасов!
— Сам ты запутался! — смеется Протасов. — Рубишь сгоряча.
— Я по-большевицки! — твердо вскидывается Коврижкин. — По- боевому!
— По-большевицки, брат, это не значит, что без ума, без соображения... Ты этим не прикрывайся: нашумишь, наплетешь, а потом гордишься: я, мол, по-большевицки поступаю. За этакое и по шапке накласть можно.
— Ну, вот ты и наклал мне... уж больше некуды! — смеется Коврижкин. А смех у него невеселый, сухой и смущенный.
Протасов соскакивает с кровати, тянет со стула тужурку, застегивает ворот рубахи.
— Уходишь?
— Пора. В шесть заседание.
— Торопитесь вы все, — ворчит Коврижкин, — заседаете... Тут я еще хотел с тобой по-душам поговорить.... Мне бы работу другую. Чтоб мыслей поменьше. Пусть бы рукам натуга да маята... Не пристроен я языком орудовать. Он у меня ленивый... Да, случается, не то, что нужно, брякнет... Торопишься ты, а я до пункта хотел с тобой договориться. До самого главного пункта моей жизни...
Застегивая одной рукой пуговицы тужурки, а другой ухватывая на ходу шапку, Протасов, плохо слушая Коврижкина, говорит:
— О пунктах, Ефимыч, как-нибудь, когда посвободнее будет... Ну, поехали!..
Коврижкин лапает свою ушанку и темной тенью, разрывая дымные тенета, мечется за Протасовым.
31.
В морозном затишьи каждый звук четок и остер. За рекою лает собака, и эхо относит этот лай от стылого хребта в улицы и тревожит деревенских псов. Пестрый бежит впереди лошади, приостанавливается, вслушивается в чужой лай, ворчит, встряхивается и трусит дальше. Зябко кутаясь в дошку, Павел идет за возом. Идет и поколачивает на ходу ногой об ногу: декабрьские стыли взялись, видно, дружно и цепко.
Павел выворачивает из переулочка на широкую улицу. Пестрый с разбегу обскакивает встречного человека и коротко тявкает. Человек ковыляет неуклюже, раскорякой. Кричит на собаку, смотрит на лошадь, на воз дров, на Павла.
— Это ты, самоход?.. Хозяйству ешь?..
— Здорово! — не останавливаясь, кивает головою Павел.
— Стой!.. Куды бежишь? Я человек общественный, старый, — ты мне уваженье делай... Вишь, я проразгуляться вышел... Ломит у меня башку...
Павел останавливается, ждет. С опадающих тощих боков лошади тяжело валит пар.
— Умял скотину... Худо хозяйствуешь... Уходишь, што ли?
— Не знаю, — хмуро отвечает Павел, — не собирался... — и спохватывается, торопится.
— Ну, оставайся, Афанасий... Мне времени нет болтаться гут.
— Чудак! — сердится Афанасий. — Ты не торопись... Ты у старого человека про свою положению спроси... Ты не гордись и прямо вот шапочку долой и, мол: «низвините, Афанасий Потапыч, разгадайте мне мою положению, какому моему поступку быть?». И скажу я тебе, как обчественный человек: «уходи, собирай причиндал весь свой, бросай бабенку и айда!». Вот...
Павел понукает лошадь. Воз срывается с места, снег под полозьями скрипит и визжит. Пестрый уносится легко и бесшумно, распуская нарядный хвост, далеко вперед.
— С-сукин сын! — кричит Афанасий, оставаясь один на пустынной улице. — Самый настоящий сукин сын!.. Что б тя язвило!..
Павел слышит крики Афанасия, но не оборачивается. Он нахлестывает лошадь. Над лошадью зыблется пар. Под полозьями укутанная деревенская уличная дорога визжит и поет. Лошадь сама, без понуканья и похлестыванья, почуяв близость жилья, шагает быстрее. Пестрый врывается в полуоткрытые ворота.
Павел въезжает во двор.
Он оставляет лошадь с невыпряженным возом и входит в избу.
— Теперь, выходит, что и проходу скоро в деревне не будет! — раздраженно говорит он, сбрасывая на лавку рукавицы и доху.
Ксения выходит ему навстречу и молча подбирает неряшливо брошенную одежду. Она охлапывает рукавицы, встряхивает доху и вешает ее на деревянную спицу, торчащую в потемневшей стене.
И только, тогда, только обладив и прибрав к месту мужикову лопать, Ксения выпрямляется, становится пред Павлом и спрашивает:
— Что опять приключилось?
— Ничего! — ворчит Павел.
— Как ничего, коли ты сам сказываешь, что проходу нет?