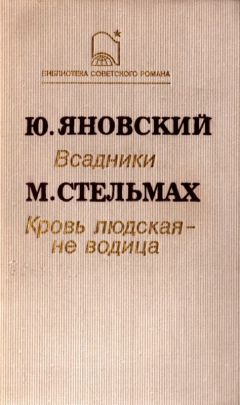Весь отряд остановился возле озерка, кто промывал раны, кто хотел напиться, лошади тихо ржали у воды, покачивались верхушки вековых сосен. «Трогай, — крикнул Чубенко, — трогай, донбасская республика!» — и, будто дурачась, пошатнулся в седле. Он чувствовал, что тиф одолевает его, дышать трудно, в голове стучат молотки. «За мной, пролетария!» — крикнул Чубенко, превозмогая болезнь. Никто не тронулся и он понял, что начался бунт.
«Митинг, митинг, — закричали партизаны. — Куда ты завел нас, Чубенко?»
Выступали старые кузнецы, показывали язвы и раны, выступали доменщики, бросали на землю оружие. «Довольно! Будет нам мыкаться, этак лесом к Пилсудскому заведет, польским панам продался, заблудился сталевар, у него тиф, знайте это, его нужно связать, пусть фершал командует». Обвешанный оружием авангард стоял молча.
В небе свершались миллионнолетние катаклизмы, а лес, как корабельная снасть, поскрипывал над черным озерком. Чубенко безмолвствовал, сидя на коне, в сердце закипала кровь, перед глазами встала белая пелена, он раздвинул ее ладонью, и вслед за этим наступила тишина, потому что все поняли — Чубенко хочет говорить. А Чубенко попусту рта не раскроет, окаянный и горластый к тому же, сейчас начнет кричать о Донбассе, о задачах, о революции, заглянет каждому в глаза, да так, словно каждый сам себе в глаза заглянул. Чубенко тебе и сталь выплавит, Чубенко и голову сложит за своего, но зато и доймет, недаром въедливый и упорный, этакого мать, должно быть, в кипятке купала, а отец крапивой пестовал.
Чубенко молчал, заглянул каждому в глаза, и вдруг, бросив повод, соскочил с коня на землю. «Надо вперед», — произнес он деловито и зашагал по дороге. За ним двинулся его конь, сосны скрипели, безмолвно повалил за Чубенко и отряд, кто конный, кто на двуколке, кто пеший.
И когда движение вполне определилось, когда стало ясно, что его не остановить, когда бойцы, перевязав раны, потащились вслед за авангардом, тогда со стороны обоза грянул выстрел. Чубенко, на глазах у всех, пошатнулся и поворотился к отряду. Он стоял спокойный и решительный, казалось, он прощается глазами с полком, с белым светом, что он вот-вот упадет перед своими донбассцами, упадет, как знамя, беззвучно, и уже больше его не поднять и некому заменить такого сталевара.
Но Чубенко все стоял да стоял, безмолвный и недвижимый, ему казалось, что сосны опрокидываются корнями вверх, сквозь туманные круги видел он свой мартеновский цех, и обрубщики рубили изо всех сил детали пневматическими зубилами. Чубенко стоял да стоял, а полку казалось, что он весь железный и устоит против любой невзгоды, и тогда того, кто стрелял, схватило несколько рук. Сразу же ему выбили глаз, изуродовали рот, протолкнули через весь отряд к Чубенко, все узнали в нем рыжего фельдшера, коварного бродягу, и никто не жалел кулаков.
Фельдшер выкатился из рядов прямо к Чубенко, упал, потом стал на четвереньки, словно хотел завыть на солнце, и, наконец, поднялся на ноги, прикрывая окровавленную глазную впадину и ревя от боли. Чубенко не спеша расстегнул кобуру, вытащил наган и, не целясь, уложил фельдшера на месте, потом сел на коня и продолжал путь, ведя отряд, пропадая от тифа, колотя себя по голове, чтобы прогнать боль.
Закатное солнце стало вровень с лесом и скатилось еще ниже, по всему лесу забегали, переплетаясь, косые лучи, они слегка дрожали и покачивались вместе с ветвями, они окутали деревья, протянулись через дорогу, точно сказочная завеса, точно речка с зачарованной водой. В нее погрузился Чубенко, он ехал, словно озаренный нимбом, и сияние это слепило бойцов. За командиром тем же путем шли донбассцы, не узнавая друг друга, облекаясь красой и мощью, молодея и забывая о ранах. Двуколка с тифозными замешкалась под солнцем и больные стали бредить: один мартеном, другой — гутой.
Чубенко скрылся в сумерках леса, припал на секунду к шее коня откинулся назад, отчаянно отбиваясь от бредового ливня, который затопил его мозг. Чубенко кричал на канавных, бранил формовщиков, звал к печи мастера, воевал с шихтовальным двором, перекуривал с инженером. Инженер становился следователем французской контрразведки, теплый одесский ветер дул в ухо, в голове стоял гул от рева морских волн, а на берегу оказалась хата лесника. Чубенко добирался к ней и никак не мог добраться, перед ним вырастали деревья одно за другим, наполняя сердце отчаянием. Без лесниковой хаты невозможно выпустить плавку из мартена, Чубенко на мгновение очнулся и понял, что тиф принялся за него не на шутку, нужно прогнать тиф и вести отряд на Донбасс.
Чубенко бил себя по голове, подавлял стоны, к нему подъехал адъютант и предложил заночевать. А за это время солнце уже скрылось, на западе искрились малиновые и розовые тучки, закат предвещал ненастье. Высоко над лесом народился молодой месяц, он еще не набрался сил и едва-едва поблескивал, но мало-помалу стал желтеть и с наступлением ночи засветил сколько мог, и Чубенков полк остановился на ночевку.
Среди высокого леса стали лагерем остатки Донбасского полка и при свете молодого месяца занялись своими немудрящими и несложными делами: на положенном расстоянии кругом выставили часовых, пулеметчики вычистили пулеметы, стрелки — винтовки, врач помазал йодом раны, умершего от тифа унесли в сторонку и положили на землю дожидаться еще двух раненых, которые уже отходили. Товарищи прощались с ними, обещали донести их слова на Донбасс, передать их на заводе и семьям.
Хорошо умирали раненые, а ведь по тому, как умирает человек, всегда можно судить, как он жил. Раненые с честью покинули этот мир, распалив еще сильнее желание победить. В их глазах навсегда застыл образ ночного леса и призрачного молодого месяца. Живые похоронили мертвых и, погрузившись в думы, стояли над могилой.
Сосны поскрипывали, как снасти, заместитель покойного комиссара произнес речь, слушали ее молча, без салютов, без музыки. Вдруг тихими голосами затянули старинное шахтерское «страдание», утомленные бойцы пели над умершими товарищами с нечеловеческой мощью. Чубенко не слезал с коня, боясь потерять на земле равновесие, он боролся с тифом; будто невольно, как бы сквозь сон, он подтягивал, и когда допели песню, заместитель комиссара продолжил свою речь.
«Научный социализм, — сказал он, — а также мир хижинам, война дворцам, требует такой доктрины, чтобы бить врагов беспощадно, и наши товарищи перевернутся в земле, коль скоро мы забудем эти слова. Петлюровская армия установила контакт с польскими панами и маршалом Пилсудским, она стремится захватить Украину и наш непобедимый Донбасс, эта армия буржуев и кулаков, размахивая желто-голубыми знаменами, творит контрреволюцию, наши товарищи легли в могилу, и мы знаем, кто повинен в этом: одного сразила петлюровская шашка, другого — польская пуля, и социализм требует…»
Чубенко между тем миновал заставу и, приказав ей быть начеку, углубился в лес. Он отправился в разведку, надеясь отыскать лесникову хату или какую-нибудь примету, чтобы сориентировать по карте. Конь, навострив уши, осторожно ступал по лесной дороге, он чувствовал, сколь ответственна эта поездка, а черные стволы и черные тени будили в лошадином воображении какие-то атавистические образы. Конь украдкой пытался заржать этим своим видениям, лес тянулся еще километра три, все такой же густой, девственный, и вдруг при лунном свете резко обозначилась широкая просека, и видно было, что лес дальше кончается.
Направо шла низина, по-видимому, к реке, от просеки во все стороны разбежался молодняк, поначалу купами и ватагами, и это было так называемое предлесье, потом пошли купки и кусты, и, наконец, одиночные деревья разбрелись по равнине, с полей повеяло запахами прелой соломы и влажной земли.
Внезапно конь остановился. Чубенко машинально взял его бока шпорами. Беспокойство коня передалось и ему, за просекой дорога опять уходила в лес, и конь ни за что не хотел туда идти, да хозяин подогнал, вот так они и заехали под деревья.
Чубенко сжимал в руке наган, пахло лесом и человеком. Чубенко хотел повернуть обратно, но в этот миг что-то мохнатое, точно кошмар, навалилось на него сверху. Теряя сознание, Чубенко проклинал все тифы на свете и вцепился руками в гриву, надеясь, что конь донесет его до отряда.
«Дорогой товарищ Чубенко!» На столе керосиновая лампа, рядом пачка документов и Чубенкова планшетка с картой, толстая дубовая балка пересекала потолок, на ней крест из копоти, сделанный свечкой в чистый четверг или на крещенье, на печи кто-то бухал без конца, надрываясь всей грудью. Чубенко поднялся с лавки и сел, голова его шла кругом, раскалывалась от боли, но Чубенко уже овладел собой. Молча оглядел присутствующих, оперся руками о колени, сжал их изо всех сил, успокаивая себя и стараясь быть хладнокровным, готовясь к смерти от вражеской руки. Наган его тоже лежал на столе, трое сидело, у печи стряпала женщина.