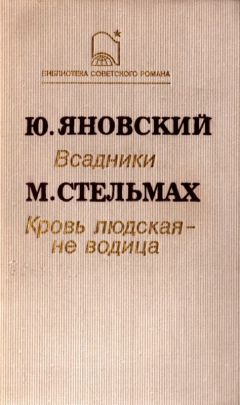Чубенко еще раз внимательно посмотрел в бинокль, процессия приближалась, сияя красными знаменами, лица чубенковских бойцов оставались сосредоточенными и серьезными, словно не по сердцу была им эта торжественная встреча, они деловито, на ощупь расстегивали подсумки.
Шествие приближалось, Чубенко подал команду, донбассцы рассыпались и залегли. «Огонь!» — крикнул обычным своим голосом Чубенко. Застрочили размеренно пулеметы, разбивая процессию пулями, стрелки непрерывно щелкали затворами, вылетали порожние гильзы, знамена попадали наземь, женщины выхватили шашки и двинулись врассыпную в лобовую атаку, переступая через убитых и раненых.
«И сами на этот фокус брали», — сказал про себя Чубенко, стреляя из винтовки, как рядовой солдат. «Слава! Слава! Сдавайтесь, коммунисты!» Шествие превратилось внезапно в боевую единицу и кинулось в атаку с таким остервенением и упорством, что могло бы деморализовать всякого, но донбассцы не отступали ни на шаг, а пулеметы не умолкали ни на секунду.
Замаскированные враги стали терять единодушие, напрасно размахивала шашкой стоящая впереди женщина, в ней Чубенко узнал вчерашнего молчаливого. «Бей коммуну! бей коммуну!» Донбассцам это было не в первинку, они выдержали тот психологический момент, когда обычно обороняющиеся теряются перед упорным натиском, и расстреливали маскарад так спокойно, словно сидели за стальным укрытием. Волна остановилась, покрывая землю трупами, люди в панике стали разбегаться.
Чубенко приостановил огонь, щадя патроны и давая пулеметам остыть, потому что в это время вырастала новая опасность: из-за ближайших хат вылетел отряд конницы и развернулся для атаки. Отряд был поставлен, чтобы начисто изрубить чубенковцев в том случае, если они побегут под натиском замаскированной пехоты, и конница вылетела сдуру, желая сорвать на донбассцах свою злость. Сотня, залегшая редкой цепью, выставила штыки и не испугалась пущенных в карьер коней и визга шашек. Под желто-голубым петлюровским флагом Чубенко узнал своего собеседника с детским лицом.
Конница промчалась прямиком через донбассцев, и ей не удалось поднять их с земли, под удары шашек, донбассцы вдогонку открыли огонь, ссаживая с коней всадников. В это время петлюровская пехота группировалась возле командиров, готовясь к атаке. Чубенко поднесли из перелеска патронов.
Вдруг из-за плетней на петлюровцев посыпались выстрелы — редкие, но губительные, после каждого выстрела кто-нибудь падал, петлюровцы метнулись назад и стали выбивать стрелков из засады. Выстрелы все редели, из-за плетней выбежали тринадцать человек и жиденькой цепочкой побежали к чубенковцам. Они отступали, как старые фронтовики, пригнувшись, петляя, отстреливаясь, ползком, — это были профессионалы военного искусства, и, отступая, они не потеряли ни одного человека. Чубенко, посмотрев в бинокль, приказал поддержать отступающих огнем.
Наконец они добежали к донбассцам. Чубенко узнал среди них чахоточного солдата, глаза его горели фанатичным огнем, он добежал к Чубенко, зажимая рукой рот, и упал на землю. Изо рта хлынула потоком кровь, лицо стало восковым, прозрачным, он дышал с трудом, дыхание в горле клокотало.
«Держитесь, — через силу вымолвил он, — я еще ночью послал за подмогой, туда верст с двадцать, кроме наших партизан, может быть регулярная красная часть, там большак. Держитесь, товарищ Чубенко». А Чубенко душила жалость и злость. «За смертью сюда пришел, что ли, без тебя тут не освятится, ты свое, парень, отвоевал».
Солдат обратил к Чубенко смертельно-бледное лицо: «Не смей, Чубенко, унижать, я здесь в подполье работаю, такая смерть мне каждую ночь снится». — «Молчи да воздух глотай! — сказал ему Чубенко. — Вот переправлю раненых и полковое добро через реку, а к вечеру и сам двинусь следом, подмога мне ни к чему».
Но солдат его не слышал. В агонии он поднялся на ноги, выпрямился в эту последнюю минуту своей жизни, словно хотел принять парад своих преемников. «Такая смерть мне каждую ночь снилась», — прошептал он и упал, сраженный пулей. Чубенко приказал покрыть его знаменем и сам почувствовал непреодолимую усталость. В ушах снова загудел мартеновский цех, и солнце превратилось в несколько слепящих засыпных окон мартена, а земля раскачивалась, как качели, подвешенные к небу.
«Огонь! — скомандовал Чубенко, перекатываясь по земле. — В атаку, донбасская республика!» По улицам села мчалась подмога, сея панику в рядах врага. Чубенковцы пошли в атаку и соединились с подмогой. Чубенко тщетно силился подняться, но всякий раз падал, через несколько минут к нему подскакал Иван Половец.
Чубенко стоял на ногах, пошатываясь, как стебель на ветру. «Спасибо, брат, клади меня куда хочешь», — и это было последнее героическое напряжение Чубенко, командира полка.
Где-то под Апостоловом, после знаменитого боя с кавалерией генерала Бабиева, ехал Чубенко на алой, как закат солнца, тачанке своего нового и лучшего пулеметчика, кузнеца Максима. Донбасский полк, выдержав в составе всей армии многочасовой победоносный бой с белой гвардией, преследовал изворотливого врага, который кинулся к Днепру. Чубенко, исхудавший и еще слабый после тифа, и усатый Максим с важным и независимым видом восседали на тачанке, позади опускалось солнце, Чубенко держал в руке выкованную из железа розу, оценивая ее глазом средневекового цехового мастера.
Это было чудо искусства, вдохновения и терпения, нежное создание замечательного молотка, радость металла, который расцвел, цветет и осуществляет хрупкое прорастание живых клеток.
«И скажу тебе, командир, каждый лепесток молотком выковывал, а вся роза из цельного куска, ничего в ней не приварено, не припаяно, точно выросла она у меня из железного зерна и привой был из металла. Я, потомственный кузнец-оружейник, для всей армии пулеметы мастерил и весь мир исходил, как журавль».
Чубенко оглянулся: за ним сплошной колонной громыхал полк после боя под Шолоховом, полк, пополненный по окончании польского похода, опять расцветший донбасской славой, на тачанке стоял пулемет, усовершенствованный и пристрелянный, послушный и поворотливый, выверенный, надежный «максим».
«Ты не поверишь, командир, до чего это хитрая штука — ковать розу, чтоб была она нежной и бархатистой, чтоб роса на нее по ночам садилась — на черную мою и вечную розу. Люблю красивую, ажурную работу, хочется быть мастером на весь мир, и чтоб жизнь повсюду стала краше, солнечней. Вот на алой тачанке ездим, а до этого у меня была другая тачанка — вся в зеленых цветочках, в румяных яблоках да в подсолнухах, где придется.
Перед кузнецом весь мир открыт, а ежели к тому еще он отколотил урядника в пятом году да побранил жандарма, ежели он пел: „Марш, марш вперед, рабочий народ“, — да носил красное знамя, то его бродячую судьбу можно заранее угадать. Вот я и двинул в широкий мир.
Выковать розу не всякому по силам, и я то и дело брался за эту работу, чуть только выпадет свободная минута. Сидя в тюрьме перед пожизненной ссылкой, я все себя спрашивал, хватит ли моей жизни на ссылку. Шли дни, шли ночи, и дней было без счета, и я понял, что жизнь моя короче дня, всю ее передумал за один день, и еще немало осталось этого дня для тюремной скуки.
Но вот повстречался я с молодым смертником, убил он пристава, его за это должны были повесить. „Эх, кузнец, кузнец, — говорил он, содрогаясь всем своим существом под гнетом предсмертных мыслей, — не сковать нам, кузнец, розы. Растет она нежными утрами, когда пьет росу, а мы ложимся окровавленными ей под ноги, эх, кузнец, если б тебе удалось выковать розу, она ведь медленно растет, наша роза революции“.
И его повесили, едва засерел рассвет, под жуткие крики всей тюрьмы, мы кричали, били табуретами в дверь, рвали на себе одежду, крушили окна. Молодой мечтатель расстался с жизнью под гром и неистовство наших протестов; хотелось бы знать — какую музыку услышу я на той последней меже?
И вот запомнилась мне та роза, и стал я ковать. Когда я брался за молоток, мне казалось, что все кузнецы мира берутся за молотки и бьют и бьют молотками, мне помогая. Словно игла пробуравила мне мозг, день и ночь я чувствовал ее — ту мою розу. Когда человек одержим одной лишь думой, того человека ничто не возьмет — ни голод, ни холод, ни жара, ни смерть. И, наверно, я остался жив, мыкаясь столько по свету, потому, что ковал свою железную розу.
Доковал ее в пустыне. Проснулся среди ночи на холодном песке, проснулся в горячке и нетерпении, во сне я кончил ковать свою розу. Я видел еще ее густой багрянец, ощущал в руке ее тяжесть, на лице — ее тепло. Я еще дрожал, но действительность заполняла мой мозг, вот все ушло, и только звезды мерцали надо мной в чужом южном небе. Вон перед нами, командир, чуть виднеется на востоке, в темновато-голубой вышине, красная звезда Альдебаран, она будет подниматься все выше и выше, скоро все созвездие появится на потемневшем небе, восемь видимых звезд, острым углом, журавлиным ключом вечности.