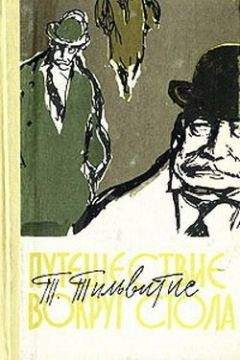Но Санька уже направился к своим воротам. Чего проще — он пройдет через перелаз мимо колодца. А Маруся в нерешительности застыла на месте.
— Почему не идете? — тронула ее за плечо Таня. — Мы ждем.
— Да… сейчас вот… Санька пошел туда… Через двор. Сейчас он придет к вам.
Таня печально глядела вслед Саньке. И вдруг улыбнулась, увидев на влажной дорожке следы от белых Санькиных туфель — с них обсыпался мел. Вот почему он вернулся!..
В коротком белом платье, в белых босоножках, с ромашкой в вихрастом чубчике, Таня и сама была похожа на ромашку. Она все еще улыбалась чему-то. А гости отовсюду кричали:
— Таня!.. Таня! Иди же сюда!..
Она резко мотнула широким подолом белого платья и побежала к свадебным столам, выставленным среди двора, под вытянутым сверху брезентом. В окружении молодежи там уже стоял Санька. Он будто обнимал всех дружеским взглядом. Широко раскинув для приветствия руки, трижды поцеловался с Таниной матерью, с женихом. Тот смущенно улыбался, счастливо сиял своими красивыми карими глазами, тайком следил за Санькой. Кажется, никто не замечал настороженности в глазах жениха, как не заметили, что и Санька под этим взглядом как бы съежился.
— Чтоб вы счастливы были, мамо, с детьми своими, внуками и правнуками! — говорил он растроганной до слез Мотре Самойленчихе. — Чтоб в вашем доме паляницы были до потолка, а детей как гороху. Чтоб ты, Кирилл… — на мгновенье замялся: получается как бы запанибрата. — Чтоб ты, Кирилл… Пусть тебе… в общем, будь счастлив! А давай-ка по чарке. — Сгоряча опрокинул рюмку водки.
Открыл глаза. — на него смотрит тяжелым жгучим взглядом Таня. А ей он ничего не хочет пожелать? На ее свадьбе?
— Таня… И с тобой выпью по-соседски. Росли же вместе! Помнишь, как мы раками пугали вас?
У него в голове все шло кругом — от водки, от какого-то щемящего душу чувства, вдруг пробудившегося в нем. Вспомнилось — Зеленое озеро, Горобцовский брод, Ясенева гора, коза Цацка, златобокий месяц и те письма, которых он так ждал… Набрал в грудь воздуха, повертел перед глазами пустой рюмкой — кто-то плеснул туда адского напитка. Выпил. И вдруг запел:
Мисяць на нэ-э-эби, Зироньки ся-а-ють…
Хмельные визгливые голоса недружно подхватили песню.
— Что вы такую грустную затянули на моей свадьбе? — весело притопнула ногой Таня. — Хочу, чтобы жизнь наша была радостной и веселой.
Лугом и-иду, коня ве-еду…
Кто-то навалился на Санькину спину горячим телом и кричал прямо в ухо:
Розвыва-айся, лу-у-же…
Санька едва вырвался из чьих-то объятий, поправил на плече пиджак и направился к перелазу. Не видел, но чувствовал спиной, как за ним следит чей-то пытливый взгляд. Не оборачивался, шел прямой, гордый и независимый, довольный собой. А на земле от его выбеленных парусиновых туфель оставались меловые следы.
III
Через Глубокие Криницы неутихающим грохотом моторов катилась в черных тучах дыма и пыли война. Запахи бензина и гари забивали аромат дозревающих нив. Яркое летнее солнце не пробивалось сквозь высокие столбы пыли над большаком. Соленый пот белыми пятнами выступал на спинах солдат. На их потемневшие гимнастерки липла серая пылища. Люди походили на длинные цепочки серых журавлиных ключей, тянувшихся сюда, к Днепру, и дальше на восток. Село будто затаилось под соломенными почерневшими стрехами. Увяли и посерели сады, исчезли из них шумливые птицы. Перепуганные куры прятались по бурьянам.
Над большаком пролетали темные крестовидные тени. Они истошно ревели над колоннами машин и людей, шмыгали, как огромные коршуны, делали хищные круги и, падая к самой земле, выплевывали из себя струи огня. Потом стали появляться тяжелые неповоротливые самолеты, стряхивали с себя тяжелые хвостатые капли, которые со зловещим завыванием устремлялись вниз. Они оглушительно разверзали землю и поднимали в воздух высокие черные смерчи. Грохот на большаке не унимался. Он катился к Днепру, на Кременчуг.
После нескольких бомбежек в Глубоких Криницах окончательно поверили, что война вошла в их дом. Молча начали выходить за ворота мужчины и парни. Одетые по-дорожному, с вещевыми метками за спиной, с котелком или кружкой на боку. Молча оглядывались на свои подворья, на вербы и тополя, которые сами высаживали весной, на гнезда аистов, устроенные невесть когда на высоких крышах клунь [3], на трехкрылый ветряк, возвышавшийся над самой Шаривкой на зависть другим частям села — Подолу и Парату. Шли к большаку, вливались в серый поток запыленных людей и исчезали за Днепром. Будто растворялись в безвестности. Дома говорили: муж или сын ушел на войну.
Однажды утром Глубокие Криницы проснулись от необычной тишины. Смолкло урчанье моторов на большаке. Опали висячие столбы пыли.
Утреннее солнце, как и тысячи лет до этого, выкатилось над Ясеневой горой и радостно высвечивало окна. Тихое росистое утро. За притихшими садами золотились колхозные хлеба, лениво поворачивал над Шаривкой свои крылья ветряк. Во дворах — ни души. В хлевах голодно мычала скотина, встревоженно кокотали куры. Время будто остановилось.
Вдруг эту настороженную тишину прорезал нарастающий бесперебойный грохот вперемежку со стрельбой. Этот грохот быстро приближался со стороны большака и скоро наполнил все село.
Хоть было страшно, Таня выглянула на улицу и сразу же поняла: в село въезжали фашистские мотоциклисты. Вскоре, возбужденные и шумные, они побрякивали по селу автоматами и котелками, бесцеремонно вваливаясь в хаты, хозяйничали в хлевах. Вот