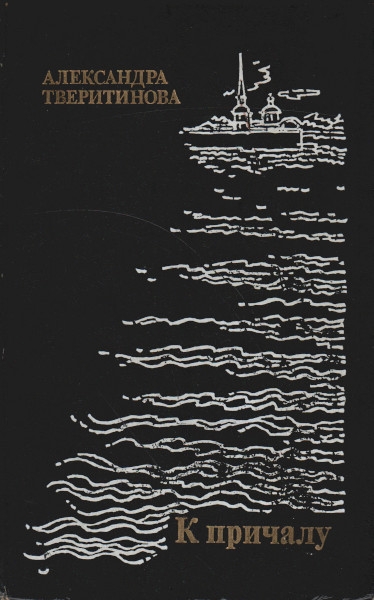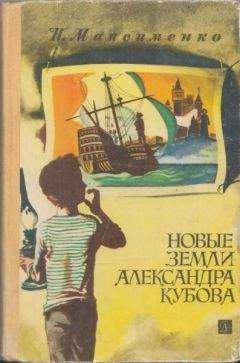в глаза. — Тася, честное слово, нет! Я по-хорошему... люблю Жано. Просто люблю — и всё. Честное слово!
— Так я же и не говорю ничего.
— Тася, Костров знает Жано, да?
— Я познакомила.
— Где?
— На факультете. Вадим Андреевич иногда приходит к нам.
— А зачем он приходит к вам?
— На лекции, когда бывают интересные.
— Кострову нравится Жано?
— Нравится. Умный, говорит, парень.
— Видишь, даже Кострову твоему нравится.
— И тебе... — Тася улыбнулась.
— Ну, так... я тебе сказала уже.
— Ну хорошо, хорошо. — Тася решительно поднялась. — Поздно как! — Она взглянула на часы. Был второй час ночи.
— Ложись, Маринка, спать.
— Я чуть-чуть еще.
Тася ушла. Я придвинулась к столу. И опять меня обступила тишина ночного отеля и ритмичный шелест отбрасываемых конвертов. Костров... Костер... пламя... Жано нравится Кострову. А почему я Кострова не знаю?.. Влюблена Тася в Кострова или нет? Вадим Андреевич... Красиво. Жано нравится Вадиму Андреевичу... Жано «умный парень»... Жано любит Россию... и меня. Меня — потому что Россию?.. Нет. Просто — меня любит. А я Тасе не сказала... Это же секрет Жано. А про себя я правду сказала. Честно. Я не влюблена в Жано. Я люблю Париж. Это сильнее меня. Жано ни при чем...
Мысли мои стали путаться. Я уронила голову на стол, и сразу всё стало проваливаться — вниз, вниз, вниз...
Когда я проснулась, в комнате чуть посветлело. Борясь с одолевавшим меня сном, я опять принялась за дело.
Жано говорит, что в Советской России студенты не платят за комнату. Дома, в которых живут студенты, принадлежат государству, и студенты не платят за комнату. И за обучение не платят. И еще стипендию им дают. Государство полностью берет тебя на свое иждивение. Вот чудо...
В «Кафе де ля Сорбонн» было тесно и полно табачного дыма. Я спустилась вниз, остановилась на лестнице и поискала глазами своих. Они сидели в глубине зала. Увидев меня, Жано вышел ко мне навстречу.
— Алло, Марина! Ты что так долго? Я уже собирался ехать к тебе, — сказал он тихо.
— Готовлю ненавистную химию.
— Сдашь.
— Не уверена.
В подвальном зале было тихо, не так накурено и уютнее, чем наверху. Мягкое освещение, крытые красным стеклом столики, красные диванчики, пальмы. Днем здесь пустынно, как в соборе Парижской богоматери в будни. Можно заниматься спокойно. Возьми чашку кофе, а есть на что — так еще и круасан или бриошь, и сиди хоть целый день.
Мы пошли к столику.
— Привет, Марина!..
— Привет!
— Опаздываешь, — сказал Луи, придвигая мне стул. — Скажи сразу, не думай: что́ бы ты сделала, если бы могла сделать всё, что тебе хочется?
Я смотрела на него, не совсем понимая.
— Не думай. Выкладывай сразу.
— Уничтожила бы науку химию, — сказал Рене.
— И повесила б всех профессоров, причастных к химии, — добавила Жозе.
— В Россию бы поехала, — сказал Жано. Он притянул стул от соседнего столика и сел верхом.
— Нет, — возразила я, усаживаясь, — мне нравится в Париже.
— А мне в Африке, — сказала Жозефин. — Я поеду в Африку, в Касабланку: буду там работать.
— Далась тебе Касабланка, — протянул Рене. — Париж хороший город.
— А еще лучше Шербур... — вставил Жано. Он подмигнул Рене.
Мы с Франсуаз переглянулись. Все мы одинаково были влюблены в нашу черную американку, только бретонец, кажется, немножко больше.
На столе лежала листовка, написанная Жано. Я взяла ее и громко прочитала первую строчку: «Студенты! Вступайте в Союз коммунистической молодежи!..»
— Французы, плетитесь в обозе у России!.. — тут же откликнулся Луи и вдруг запнулся, поглядев на меня. — Прости, Марина! Я привык считать тебя француженкой...
Я смутилась, сама не знаю почему.
— Луи, я не очень разбираюсь в политике, — сказала я. — Но только сначала ведь была французская революция, так почему же «французы — в обозе у России»? Первыми были как раз французы, правда, Жано?
— Браво, Марина! — воскликнул Жано. — Русская революция — дочь Парижской коммуны.
— А «Интернационал», кстати, во Франции создан, — припомнил Рене.
— И Зимний дворец, между прочим, русские под звуки нашей «Марсельезы» брали. Тебе это известно, Луи? — добавил Жано.
— Одним словом, первые зарницы коммунизма полыхнули во французском небе, — сказал Луи.
— Во французском! — подхватил Жано. — И как ни вертись этот граф де ля Рокк, доказывая, будто идеи коммунизма заносят к нам «из-за рубежа» и что это доктрина иностранная, — коммунизм всё-таки и наш, французский!
— Коммунизм, — усмехнулся Рене, — с западным гением Франции несовместимая.
— Только для дикарей Востока приемлемая, — в лад ему сказал Жано, пристально глядя на Луи.
— Перестань, пожалуйста, Жано, — попросила я. Мне не хотелось, чтобы они ссорились.
— Тише вы! — шепнула Франсуаз и показала глазами на столики в противоположном углу. — На нас уже оглядываются.
Я обернулась. Там, куда показала Франсуаз, было что-то вроде заседания; за тремя задвинутыми в темный угол столиками сидели русские. Они курили и рассеянно слушали сухопарого, с длинным нервным лицом, человека. На некоторых были серые халаты шофёров такси. Но это не скрывало какой-то неуловимой изысканности в облике этих людей. Медленно пуская к потолку тонкие струи дыма, они изредка посматривали на нас и, прислушиваясь к нашему спору, обменивались ироническими улыбками.
— Керенский, — сказал Рене, кивнув на докладчика.
— Луи! — загорелся Жано, — вот случай так случай! Кто, как не Керенский, подтвердит тебе, что Зимний брали под звуки «Марсельезы»!
— А я его спрошу, хочешь? — И Рене стремительно поднялся.
— С ума сошел! — удержала его за локоть Франсуаз.
— Брось дурака валять, Рене, — сказал Жано серьезно.
— О чем это они? — спросила меня Жозефин.
— А, не знаю! — отмахнулась я. —