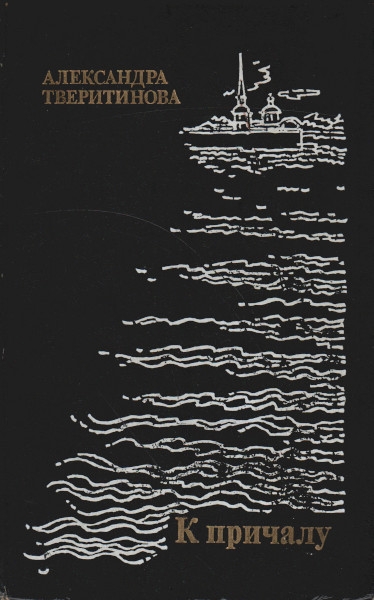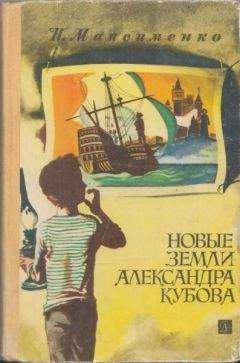и только Авдотья Степановна занимает большую мансарду одна, и знакомые Елены Алексеевны попросили ее прописать меня. Я нанимаю у нее разбитый диван и сплю под низко скошенным потолком, около полуоконца с подоконником почти вровень с полом, и выходит оно, оконце это, на ряд сараев с крышами в ржавых заплатах.
Впереди, сквозь густые заросли, тускло просвечивает над дверью лампочка. На лестнице, как обычно, темь непроглядная. Кто-то систематически вывинчивает лампочки на площадках. Ступаю на ощупь, держусь за перила. На третьем — последнем — этаже по темнющему коридору, вдоль длинного ряда плотно закрытых дверей, мимо сундуков с керосинками, — ни полоски света, ни звука! Жгу спички. Сундуки, двери, двери, сундуки... Предпоследний, Авдотьин.
Старуха, как обычно, сидела в потемках. Я нажала на кнопку выключателя и прошла молча в свой угол. Села на разбитый диван.
Пришлепала Авдотья. Молча взглянула на меня, поправила ситцевый платок на голове, включила над столом слепую лампочку — стопудовый на толстенных ногах стол, древний, как сама Авдотья, стоял впритык к дивану, — задвинула коленом табуретку под стол, опять взглянула на меня, сказала: «Нашла аль нет?»
Она стояла — так мне казалось — мучительно, долго. Облизала сухие губы, снова поправила платок, вздохнула и прошлепала к дверям: тушить серединный свет и сидеть за ситцевой занавеской на кованом сундуке. Отсидит свое, потом станет укладываться.
Я смотрю ей в удаляющуюся спину: как шаркает она разбитыми ногами в другой конец полупустой, и от этого кажущейся еще просторнее, комнаты. Сквозь выгоревшую кофту проступают костлявые плечи, длинная, плоская, с большими черными глазами, с очень бледным, как у покойника лицом. Казалось, пролежала старуха сутки в гробу, встала и опять начала жить.
«Откажет в жилье? А ведь может».
Сидела, тупо глядя, как Авдотья готовится ко сну. Шаркая взад-вперед, снимает с кровати классическую гору подушек, больших и малых, и еще совсем маленьких, и все в белоснежных с прошивками наволочках, несет их на сундук, аккуратно кладет одну на другую, потом снимает «марселевое» покрывало, сверкающее белизной, аккуратно складывает на заглаженных сгибах и несет на сундук тоже, приносит расхожую, в ситцевой с цветочками наволочке подушку, долго ее взбивает и кладет в изголовье кровати, потом она развязывает на поясе тесемки, и юбка тяжело падает на пол. Стоя у кровати, она завертывается в серое с черной каймой бумажное одеяло и, как древняя мумия в саване, взбирается на высоченную, железную с никелевыми шарами, кровать. Поворочалась раз-другой и заснула.
Ветер рванул с меня платочек, и я поймала его в луже. Лета будто не было и в помине. Дождь брызгал косыми струями, под ногами хлюпало, мокрые листья срывались с деревьев. Текло за воротник.
Шепчу бессмысленные проклятия себе. На углу слабо мерцает огонек в киоске. Купила «Литературную газету».
Удивительно мерзкой показалась мне мансарда Авдотьи. Я швырнула разбухший от дождя портфель на клеенку, села к столу, придавила висок рукой, чтобы утихла боль. Раскрыла отсыревшую «Литературную газету». Первое, что увидела — коротенькую и добрую рецензию на сборничек рассказов. Всматриваюсь в фамилию расхваленного автора. Читаю-перечитываю — фамилия-то Кирилла. Может быть, эти рассказы написала Лиля? Сестра Кирилла?
Стараюсь заснуть. Стараюсь не думать. Не думать. Ни о чем прежнем. Не надо, не надо!
...Меня приняли на работу... Все вышло неожиданно просто. Направили к заведующей заводской библиотекой, и пожилая женщина, маленькая и горбатенькая, спросила: «Что и где кончили?» — и, взглянув на выложенные мною на стол документы, отодвинула в сторону диплом и все остальное, взяла паспорт, кинув быстрый взгляд на прописку, сказала: «Посидите», — и ушла в боковую дверь, очень скоро вернулась и протянула мне мой паспорт и сказала: «Все в порядке. Можете начинать хоть сегодня, — и добавила: — Если хотите, оставайтесь». Она взглянула на меня и грустно улыбнулась. И я «хотела сегодня».
Она повела меня в соседнюю, всю в стеллажах, комнату и показала на груду журналов в дальнем углу, и я приступила к работе.
Теперь я каждое утро с пристани вместе с людьми, работающими в Заволжье, отправляюсь на ослепительной белизны речном трамвайчике на тот берег, потом пересекаю центр, выхожу на окраину и иду лесом, старым, старым лесом.
Меня обгоняют заводские, сначала рабочие, потом служащие, они на ходу оглядываются на меня, идут дальше, идут по двое, по трое, торопятся, спешат, спешат. Я не спешу. Впереди у меня времени много. Библиотека открывается только в десять. Просто я приезжаю сюда рано побродить по лесу.
Потом людей становится меньше, потом еще меньше, потом я иду пустынной поляной, иду и часто оглядываюсь.
Потом справа, над рощей выплывает солнце и осыпает мелким золотом вершины белоствольных берез, и небо в том краю уже совсем разголубелось. И тишина, глубокая тишина утра, леса, поля.
И вот уже — август!
Пришел как-то сразу, и время, которое так мучительно тянулось все эти годы, вдруг галопом помчалось и голова кругом. Нет тебя, Вадим!.. И это самое страшное! К тебе я пошла бы по морю, яко по суху, и ты бы расставил мне все «точки» над «и».
В мансарду явилась взбудораженная хлесткой неудачей. Кинула на стол портфель, тяжело опустилась на диван.
Сидела, тупо глядя в мокрый сад за окошком. Та передышка в заводской библиотеке Заречья, уже не вчерашний день, а вчерашний век.
Проснулась и осталась лежать, как лежала, глядя в низкое оконце и чувствуя туканье своего сердца.
Мне приснился Вадим. Я стояла, прислонившись к стене вокзала, и ждала. Из-за поворота выскочил желтый фонарь паровоза. Поезд надвигался, ударил в уши сразу грохотом и, пролетев головой далеко вперед, остановился, затихая и поскрипывая. Я одиноко и опасливо вглядывалась в полутьму на мужчин, выходивших из вагонов. Ни один из них не был Вадимом. Я спросила: «Баба-рюс», есть ли еще другой «Выход в город»? Она сказала: «Там. В другом конце». Я побежала в другой конец перрона. Вдалеке мелькнул мужчина. Показалось, похож на Вадима. Это был не Вадим. И если бы в эту минуту «баба-рюс» с берестяной кошелкой не прошла к «Выходу в город» и я не проводила ее взглядом, то и в самом деле не встретила бы Вадима: он как раз в эту минуту подходил к лестнице.
По платформе шел в русском полушубке и шапке-ушанке, чуть сдвинутой назад, новый и все-таки