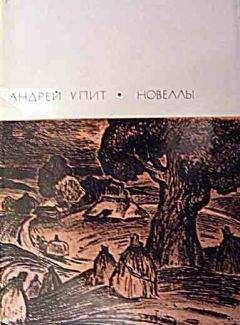— А я обжаловал решение в сенат.
— Вон что! Хорошо — нечего сказать. А еще пастор. Вам надо было на адвоката учиться. Барышник бы из вас хороший вышел!
Пастор Зандерсон больше не слушал. Он был уже возле развалин погребицы, однако остановился, перевел дух, лишь когда его заслонили кусты бузины. От возбуждения дрожали руки, сердце учащенно билось. Кровь стучала в висках, а он все еще слышал, как Абрик, проходя по двору, бранился на чем свет стоит.
Вот каково теперь приходится пастору… И это здесь, где он в течение восьми лет был полновластным господином и повелителем. Тогда Абрик и ему подобные заходили к нему без шапки и умоляли об отсрочке арендной платы… И это те самые люди, на которых он с церковной кафедры метал громы и молнии, а они стояли, склонив головы, в ожидании милостивого слова.
Из дому вышел Абол. Заметив пастора, он помахал рукой и заковылял к нему по камням и грудам обломков.
— Господин Зандерсон, идите же, вас ждут.
Но пастор не спешил. Пусть подождут, если он им нужен. Раньше, бывало, стоило прихожанину прийти на пятнадцать минут позже положенного часа, и он не принимал его… Пастор глядел на хромого Абола, и гнев подымался в нем, как на дрожжах. И зачем только он нанял этого пересмешника и безбожника? Десять пурвиет каждый бы согласился обработать… И раньше-то этот колченогий не называл пасторшу барыней, а теперь и его самого, по примеру Абрика, называет не господином пастором, а по фамилии.
Подошел, даже рук не вынул из карманов…
— Там пришел Озол со своей, так сказать, женой.
Пастор знал, кто такой Озол, знал и зачем он пришел. И все же переспросил, чтобы не смотреть на Абола:
— Что им надо?
Абол улыбнулся.
— Венчаться, чего ж еще.
При этом он хитровато прищурил глаза, словно хотел выпытать, что думает на этот счет пастор. Будто и сам не знает, что тот может думать об этом… Стоя к нему боком, пастор глядел на реку, на сосновый лесок. Терпеть не может он Абола: один сын у него в шестом году был сослан в Сибирь, другой — красноармеец — ушел вместе с большевиками. Только теперь пастор сообразил, какую он совершил глупость, предоставив этому безбожнику и бунтовщику работу и кров.
Оба направились к дому. Пастор даже спиной ощущал взгляд прищуренных глаз Абола.
— Вы не собираетесь строиться в этом году, господин Зандерсон? Долго мы будем ютиться в этом ласточкином гнезде? В сухую погоду еще ничего… Но когда дождь — во всех углах проливает. И без хлева не житье. Вам бы поросенка не мешало завести, да и мне без скотины невмочь. Сена для коровы можно тут же, по пригоркам, вдоволь накосить.
Пастор сверкнул глазами сквозь очки.
— Разрешение на лес я получил. Думал, что к весне вы срубите.
— Срубить недолго, вот только вывезти некому. Платить по сотне за дерево вы не хотите.
— Это выходит — четыреста за зимний день. Нет, так я не могу и не хочу. Это городские цены. Сплошная обдираловка.
— А задаром вам никто не вывезет… Теперь людям и своих дел довольно. Уж если у вас не заработать… Вам ведь деньги легче достаются.
— Да, да… Я их лопатой огребаю, мне они прямо с неба сыплются… Не понимаю! Человек вы как будто неглупый, а говорите такую чушь. Мы живем в двух комнатах на Валмиерской улице. Знаете ли вы, где это? Знаете вы, сколько мне приходится платить за обучение сына? Дочь служит в Риге в почтовой конторе. Жене надо бы поехать в Кемери, а ничего не получается — нет средств.
— Н-да, Кемери, взморье, — вторил ему Абол, — для нас по теперешним временам дороговато. Пусть уж едут те, кому не нужно отстраиваться.
И этот человек еще смеет насмехаться. У пастора на висках вздулись синие жилки. Он больше не слушал. Ускорив шаги, добрел по тропинке до полуразрушенной части дома, открыл и захлопнул за собой дверь.
Озол и его, так сказать, жена уже стояли перед столиком и поздоровались с ним. Пастор слегка кивнул головой и сел. И только тут он заметил, что Аболиене начала собирать на стол. Тарелка, нож, вилка, глиняная чашка с подливкой, нарезанный ломтиками черный хлеб… Как все это не вязалось с тем, что ему предстояло сейчас делать и говорить!
Дверь приотворилась, и на пороге показалась Аболиене с дымящейся миской в руках.
— Подождите! Немного попозже!.. — Пастор протер уголком носового платка очки — как всегда, когда у него начинали дрожать руки и стучало в висках. Взглянул без очков на Озола и его, так сказать, жену.
В наружности Озола не было ничего примечательного. Но женщина… Пастор проворно нацепил на нос очки. Поразительно, до неприличия пропорционально сложенная, стройная фигура. Неподобающе красивое для крестьянки, свежее лицо. Круглый вырез блузки открывает загорелую шею… Даже роза на высокой груди… И ни малейшего признака стыда или раскаяния ни на том, ни на другом лице!
— Я слышал… Вы хотите повенчаться?
— Да, господин пастор.
Отвечала женщина — просто, не колеблясь, не задумываясь. Карандаш быстро завертелся в руке пастора.
— Так, так… Я слышал, у вас есть дети?
— Да, господин пастор. Двое. Одному уже три года, другому восемь месяцев, — отвечал Озол, а его, так сказать, жена добавила:
— Тринадцатого июня ему исполнилось восемь месяцев.
— Так, так. Я слышал… Но почему вы обратились ко мне? У вас, вероятно, другие взгляды.
Они переглянулись. Озол кашлянул.
— Мы бы не стали вас утруждать. Мы ведь зарегистрированы. Да вот старики все пристают. Ну вот, чтобы им приятно было…
— Так, так…
Карандаш черкал по бумаге. Пастор задавал вопросы, записывал и в то же время с удивлением наблюдал за собой. Как может он еще разговаривать с ними — и так спокойно разговаривать? Зачем он задает им вопросы, записывает что-то? В довершение всего Озол перебил его: сколько с них причитается за это… дело?
— Мы люди небогатые, много заплатить не можем. Лиелпетер, говорят, пятьсот рублей дал. Мы столько не можем.
У пастора хватило сил ответить даже на такую дерзость:
— По возможности, любезный, по возможности. У нас нет определенной таксы. Кто сколько может.
После этого они по очереди подали пастору руку.
— Извините, господин пастор, нам некогда. Мы ведь поем в хоре, и сегодня перед гуляньем у нас еще репетиция.
— Вы в хоре?
— Да. Лиза поет альтом, я — тенором. И тенор я, надо сказать, неважный. Страдная пора, и подзаняться как следует нет времени.
Они ушли. Пастор Зандерсон вскочил со стула, посмотрел им вслед. Пальцы нервно комкали синюю тетрадь. На лбу выступили мелкие капельки пота. И как он мог вот так отпустить их?.. Не высказать всего, что накипело в сердце, просилось с языка? Безбожник, при большевиках милиционером был… Им, видите ли, некогда… Тенор… Еще и руку подает. Он швырнул синюю тетрадь на стол.
В комнату снова вошла Аболиене с миской в руках.
— Пожалуйста, кушайте, господин пастор. А то еще придет кто-нибудь, и вы совсем останетесь без обеда.
Пастору пришло в голову, что она, верно, все время стояла у порога и подслушивала. И сейчас за дверью раздавались два мужских голоса — один из них Абола.
— Да, да, спасибо. И затворите дверь.
Но Аболиене не торопилась. Расставила посуду и деревянной ложкой помешала в миске подливку.
— Не взыщите, подливка жидковатая получилась. Да и курица жесткая. Жулики, самую старую подсунули… Вот ваша пятерка, возьмите. Сметаны один стакан только продали, и то еле выпросила. Говорят, самим не хватает. У них сын из Риги приехал на гулянье, надо и с ним послать…
«Хорошо, хорошо», — хотел было сказать пастор, но запнулся. Что же тут хорошего? Зачем он все время притворяется, обманывает самого себя? Он положил на тарелку куриное крылышко и начал есть. Но курица была невкусная. Полштофа сметаны и то не в состоянии раздобыть. «Самим надо…» Так вот как они теперь относятся к своему пастору… Кусок застревал в горле.
Дверь из комнаты Аболов снова отворилась. Вошел Рудзит — маленький, улыбающийся, с длинными приглаженными волосами, типичный крестьянин старого поколения. Поздоровался и остановился на почтительном расстоянии от стола.
Продолжая есть, пастор кивнул ему.
— Ну, что скажете, Рудзит?
— Да что сказать… Я просто так. Мне бы получить за лошадей. Абол три дня работал — ячмень вам посеял, известку возил. Вы, верно, знаете?
— Да. Абол говорил. Правда, сегодня воскресенье, и мне еще надо готовиться к проповеди. Ну да все равно. Я вижу, таковы уж у вас теперь порядки. А платить так или иначе придется. Мне даром ничего не надо. Сколько же вы там насчитали?
— Да что считать… Я ведь не гонюсь за заработком. Мне самому каждый час промедления в убыток. Вот только что у вас нужда сталась… Как-никак соседи…
— Хорошо, хорошо. Сколько же с меня?
Одной рукой пастор подцепил второе крылышко, другой выдвинул ящик стола и зашуршал бумажками.