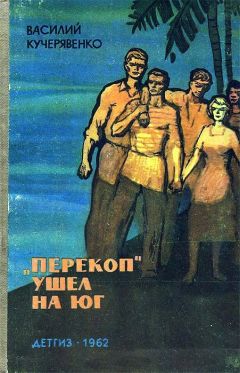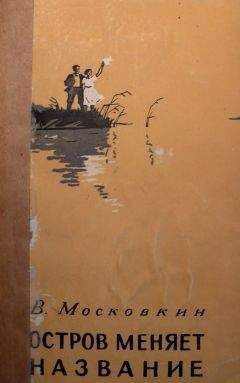Ловите Алексея Неклюдова, он пробирается из-за границы в Кострому!
«Иван Бутылкин. Его сопровождали агенты из Брюсселя до Берлина, потом до Познани. Но на границе утеряли. Бутылкин высокий, стройный блондин, большие серые глаза, красивые маленькие усики, прыщавое лицо, нос горбинкой. Вид интеллигентный. Малограмотен».
«Эсер Аргунов, бывший студент московского университета. Телосложение среднее, цвет волос на голове, бровях и ресницах — темный, на усах, бороде, бакенбардах — с рыжеватым оттенком. Голос резкий, походка быстрая, размахивает руками. На правой стороне верхней части поясницы родинка величиной с ячменное зерно».
Что ни день, новые сведения. Прямо хоть хватай каждого, кто приезжает из-за границы: шатенов, русых, сутулых, прямых — ищи родинку с ячменное зерно.
Не меньше хлопот доставляли полиции внутренние события. У известного богатея Саввы Мамонтова, собравшегося на празднества в Кострому, вдруг выкрали паспорт. В жандармские управления Костромы и Ярославля прилетели спешные описания примет настоящего Мамонтова. «Будет кто предъявлять паспорт, а приметы не сойдутся, — надлежит немедленно арестовывать».
Местным жандармским чинам пришлось только поморщиться: у них своих дел хоть отбавляй! Доброжелатели, болеющие за веру, царя и отечество, прямо-таки засыпали верноподданническими письмами. В другое время складывали бы их для любопытства потомков, и делу конец. Нынче каждое проверяй, принимай надлежащие меры.
«Проживающий в Ярославле дворянин Степан Колмогоров носит и хранит у себя без разрешения револьвер и ведет знакомство с подозрительными личностями, что ввиду приезда в Ярославль высочайших особ едва ли удобно, при том желательно, чтобы ни у кого никакого оружия не было. Затем у него есть литература». Подпись: «Патриот».
И вот идут к Степану Колмогорову, требуют у него револьвер. «Навет на меня злых людей, — отвечает дворянин. — Страх перед оружием имею, потому никогда в руках не держал». Вроде бы можно поверить человеку, искренне говорит, но фамилия его заносится в специальный журнал. Предстоит Степану Колмогорову на время приезда государя сесть в тюремную камеру. Порядок, ничего, не сделаешь.
«В двенадцатом часу вечера в Ярославле по Пробойной улице шли два молодых человека, по-видимому, студенты: один высокого роста, с черными, завитыми в кольца усами, в черной накидке с желтыми металлическими пряжками, а другой — на голову ниже, в студенческой тужурке и синих брюках. Направлялись к Волжской набережной и вели между собой разговор: „На нас все равно пал жребий, так или иначе нам умереть… Удобнее всего бросить с крыши… Теперь направимся в Кострому, а двадцатого числа вернемся сюда“». Тот, что поменьше, в синих брюках, ответил: «Это хорошо продумано», и оба отправились на пароходную пристань «По Волге».
Разве оставишь такой важный сигнал без внимания! Спешно выслали наряд тайных агентов на поимку указанных молодых людей, а заодно предусмотрели: во время приезда царских особ все крыши домов, возле которых будет проходить процессия, взять под наблюдение.
Так уже заведено, что все сколько-нибудь значащие сведения непременно попадают на стол губернатору. От обилия самых невероятных сообщений, от беспокойства сна можно лишиться. Нечто похожее происходило с графом Татищевым. Куда делось обычное хладнокровие. Принимая чиновников для доклада, выслушивая их, забывал произносить свое любимое: «Душевно рад… С превеликим удовольствием…» Какие уж там радость и удовольствие, если, что ни день, запросы правительства: как идет подготовка к встрече, все ли предусмотрено? Начальник охраны царских особ генерал-майор Джунковский, сам, видимо, перепуганный донельзя, спрашивая об этом, не говорит, а лает. Возразить бы с достоинством, одернуть нахала — смелости не хватает.
Из Костромы царь должен прибыть на пароходе. А это значит весь отрезок пути надо очистить от всех судов и лодок, по берегам с самой границы Костромской губернии поставить стражников — не реже чем одного через каждые два километра, в лесных местах и того гуще. Да и в самом Ярославле, по подсчетам, требуется не менее тысячи городовых. Где найти такую прорву служителей? Действительно, голова закружится, ни покою, ни сна не будет. Кроме того, выборный губернский комитет внес предложение: пусть каждый уезд, каждая фабрика представят подарки — то, чем они славятся. Шекснинскую стерлядь из Рыбинского уезда, телятину из Углича, полушубки и кружева из Романово-Борисоглебска, в Любимских лесах поймать живого медведя. Последнее удивило Татищева, спросил подозрительно: «Зачем зверя?» — «Как же, как же, — в один голос объявили ему, — на гербе Ярославля изображение медведя с секирой. Символика». Согласился, вписал в распорядок торжества показ хозяина глухих любимских лесов, а теперь что хочешь, то и делай: до встречи царя остались считанные дни, а медведя до сих пор поймать не могут. Хорошо, если забудется, а вдруг спросят: «Ну, порадуйте нас забавой». Кого показывать? Самому в шкуру наряжаться?
Нервы у губернатора куда какие крепкие, а и то под конец стали сдавать, гнал крамольные мысли, а они неотступно следовали за ним: «Хоть бы скорей кончалось все это, обрести бы снова покой, душевное равновесие». Подчиненные его, измученные, пожалуй, больше, чем он сам, еще раньше утратили пыл и думали более определенно: «Господи, зачем все это нужно? Ради какой-то бессмысленной прогулки столько хлопот, переживаний! Будто в России нечем другим заняться…»
Справедливости ради следует сказать: не все так думали, была часть городского населения, которая с возрастающим воодушевлением ожидала приезда царской фамилии. То были ученики реальных училищ и гимназисты младших классов. По какому-то наитию свыше (все-таки наместник бога) государь всея великие и малые… царственным жестом повелел накануне своего прибытия освободить их всех от занятий и экзаменов и перевести в следующие классы. Ошалевшая от радости ребятня носилась по коридорам своих учебных заведений, кричала:
— Ура, царю-батюшке, заботнику нашему! Понимает, кому чего хочется!
В ту ночь после обыска Васька Работнов и Родион хорошо постарались — уже утром листовки были на всех этажах фабрики. Люди читали влажные еще странички и хмурились. Затем произошло неожиданное: рабочие самого большого отдела фабрики — прядильного — после недолгих споров встали к машинам. Пока продолжали бастовать ткачи, которых Грязнов еще раз предупредил, что их зарплата будет урезана в пользу работниц этого отдела. Правда, и тут уже не было согласия: пожилые рабочие стояли за то, чтобы забастовку прекратить, а к Грязнову отправить депутацию: пусть не предпринимает никаких мер, пусть все оставит по-прежнему. Депутация пошла в контору, но вернулась ни с чем: принять ее Грязнов отказался, через старшего конторщика Лихачева передал, что решения своего не изменит.
Вечером в каморку к Родиону Журавлеву пришли Маркел Калинин и прядильщик Алексей Синявин. Оба как-то странно поглядывали на Артема и молчали.
Артем сам только что явился с улицы. Несколько часов проторчал у фабрики, надеясь встретить газетчика Павлушу — может, связной знает, что произошло с Бодровым и другими товарищами. Павлуша не появился. Артем сидел у стола, прижав ладони к горячему чайнику, согревал озябшие руки.
Спокойный, несколько медлительный Синявин, выставив плохо гнущуюся ногу — с детских лет изувеченная, — тщательно скручивал цигарку. Несколько крошек табака, оставшихся на ладони, стряхнул обратно в кисет.
— Выходит, помогли фабриканту, — сказал он, не поднимая головы, будто сам себе. — Соображение у него такое было: как бы рабочему не платить и с фабрики не увольнять. Вынужденное, конечно, соображение. И его заставляют обстоятельства: против решения всех фабрикантов не попрешь, самому дороже обойдется. Вот мы тут ему и пришли на помощь: пожалуйста, господин фабрикант, сами бросим работу, мы догадливые.
— Надо было показать людям, как к ним относятся промышленники, если дело касается их прибылей, выразить протест, — сказал Артем.
— Протест, да… все с той же медлительностью, ровным голосом отозвался Синявин. — Он тоже, протест-то, ко времени должон быть. То-то директор легко согласился на забастовку. Тут бы подумать: с чего это он?.. А мы «ура», и никаких. Только душу народа не объедешь по кривой, чувствует он неладное… Потому и считаем: забастовка, а на деле то ли бастуем, то ли балуемся. Несерьезно все вышло у нас…
Артем, которого последние неудачи и аресты товарищей сделали мрачным и неразговорчивым, хмуро взглянул на Синявина. Выходило, что тот упрекает его в неумелости, и это в общем-то правильно. Но почему упрек только ему? Когда-то, еще в совсем недавние времена, такие, как Родион Журавлев, Алексей Подосенов, Маркел Калинин, отец Артема, отец Егора Дерина, считались вожаками, потому что были они еще одиночками и заметно выделялись. Теперь сознательных рабочих все больше и больше. Спрос должен быть общий. Тем более Артем и не считает, что чем-то должен отличаться от других. Если он участвует в каждом столкновении рабочих с администрацией фабрики — любой, выбравший путь борьбы, обязан поступать так же.