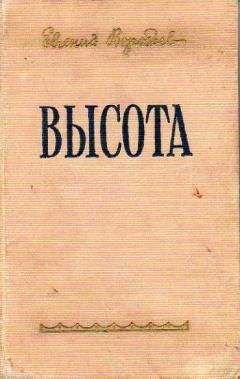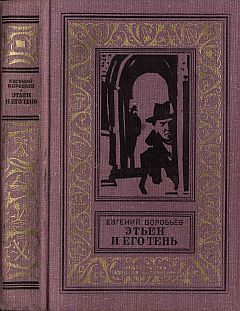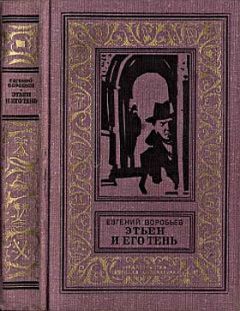«Зря я его тогда у вокзала так грубо... И насчет фартука... Хороши шутки!..»
Назавтра море успокоилось, к причалу под выгрузку стал какой-то норвежец, и Пшеничный день-деньской не вылезал из тесной будки крана, вознесенной на высоту третьего этажа.
А Баграт как тень торчал позади Пшеничного. Тот сидел на железном сиденье, окруженный рычагами, ручками управления, педалями и кнопками.
На палубе парохода у трюмного люка стоял стивидор и дирижировал всем ходом разгрузки или погрузки. Он следил за тросом, исчезающим в черноте трюма, глубокого, как колодец. Слышался надтреснутый голос:
— Вира полный! Вира помалу. Стоп! Майна. Эй, под грузом, берегись! Майна помалу. Еще чуть майна. Уйди с просвета! Вира самый полный!!!
К крюку подцеплена исполинская авоська, сплетенная из пенькового каната. В нее уложено бочек тридцать. Груз описывает над пристанью дугу, и все, задрав головы, провожают бочки глазами. Стрела крана, скрежеща, опускается, трос укорачивается, и бочки мягко касаются каменных плит.
Через несколько минут трос снова в трюме, и стивидор смотрит туда, сильно перегнувшись. Машинист крана не видит лица, но видит кисть стивидора, подвижную и выразительную. Ладонь повернута вниз — майна. Слегка пошлепывая по воздуху, ладонь опускается еще ниже — сильно майна. Стивидор откидывает руку, будто просит слова на собрании или властно требует тишины, — стоп! Рука вывернута ладонью вверх — вира!
— Ви-и-ира!
Стальной трос позванивает, и где-то на дне трюма натягивается канатная авоська, а вместе с нею шевелятся, спеша поудобнее разместиться перед воздушным путешествием, три десятка бочек.
Через два дня на место норвежца стал под погрузку теплоход «Архангельск». И опять Баграт терпеливо стоял за спиной Пшеничного и переводил взгляд с ладони стивидора на рычаг, за который, не глядя, брался Пшеничный, а потом на груз, скрывающийся в трюме под истошный крик:
— Эй, там, с просвета!
Спустя полмесяца после ухода «Архангельска» Баграт впервые взобрался на сиденье машиниста. Пшеничный устроился за его спиной.
Прошли еще две недели, и Баграт остался в будке крана наедине с рычагами, педалями, ручками управления. Теперь он работал в очередь с Пшеничным, а поздно вечером и на рассвете, когда духота не так донимала, решал и все не мог решить какие-то квадратные уравнения и не разлучался с задачником по алгебре, готовясь сдать техминимум крановщика.
Поздней осенью у причалов порта стало еще оживленнее.
К знакомым запахам моря и нефти на пристани прибавились острые запахи цитрусов, табака, чая, и все они смешивались в причудливом, почти фантастическом букете.
У седьмого склада теснились высокие штабеля ящиков, они загромождали всю пристань. Теплоход увозил с собой урожай тысячи лимонных, мандариновых и апельсиновых деревьев.
Шла срочная погрузка, и у Баграта не было времени ходить в столовую.
В обеденный перерыв он сошел с крана и обедал, сидя на ящике. Перед ним дымящееся харчо и фляга с вином. Ящики стоят на пристани высокими штабелями, в их тени, у самой воды, не так жарко.
Баграт увидел на мандариновой пристани Фотиади, веселоглазого Елисея, с румянцем во всю щеку, Картозия, Шеремета, коренастого, с почти квадратным туловищем, Акопова и других старых знакомых.
Сегодня он впервые обслуживает свою бывшую артель. За неторопливыми движениями и безразличным взглядом Баграт пытался скрыть волнение.
Он часто поглядывал вниз — не виднеется ли знакомая пестрая косынка? Изредка капитан порта посылал Агати по делам, и она ходила через их причал. Он не постеснялся бы сейчас окликнуть ее — лишь бы Агати увидела его в будке крана за рычагами машиниста.
Еще до работы Баграт поднялся на пароход, осмотрел трюм, проверил трос.
— Не ты ли собрался подъемом заправлять? — спросил Шеремет сварливо.
— Я.
— За наш счет учиться придумал? Этак вся артель на простоях погорит. Мы ведь на вокзал за халтурой не бегали, как некоторые.
Баграт стоял против него, сжав кулаки, а на скулах сквозь черную щетину проступили пятна.
Фотиади положил руку на плечо Шеремета, это всегда действовало как холодный компресс.
— Зачем кричать раньше времени? Только ветер своими словами подымаешь. Поработаем — увидим. Ей-богу, так лучше будет.
— За «ей-богу» ничего не купишь. — Шеремет отошел, продолжая ворчать: — Любителей кататься на чужой спине много. Он учится, а у нас простой будет...
Но простоя у артели сегодня не было. Отводным на борту теплохода стоял Картозия. Баграт понимал его с полуслова, с полужеста. Он работал с такой точностью, словно его двойник в это время находился в трюме, куда Баграт раз за разом опускал ящики с мандаринами.
— Был бы жив старик Ашот — полюбовался бы на сынка! — сказал Шеремет, задрав голову и показывая Елисею на машиниста крана. — Бывают мастера, которые дела боятся. Наш Баграт не из таких. Вот уж действительно дело мастера боится. Ну что ты, Елисей, смеешься? Я же не знал, что Баграт в армии на механика выучился...
К вечеру, незадолго до того как зажглись портовые огни, погрузка была закончена. Баграт, закопченный, с потеками сажи на лице, слез с крана, умылся и зашагал в портовую столовую.
Едва Баграт переступил порог, его окликнул Картозия. Он помахал Баграту рукой так, как подают команду «чуть майна», приглашая к столу, где сидели грузчики.
Баграту оставили место рядом с Шереметом. По тому, с какой поспешностью Шеремет потеснился на скамье и подвинул ему стакан, Баграт понял, что тот чувствует себя виноватым. Баграт протянул руку, и Шеремет сжал ее обеими ладонями, шершавыми, мускулистыми ладонями муши.
1959
Почтовый поезд, к которому нас должны были прицепить, уходил поздно вечером, в одиннадцать часов с минутами, и в моем распоряжении, таким образом, был весь день и вечер.
Я не разделял недовольства попутчиков и без малейшего раздражения следил за тем, как слабосильный, весь окутанный паром паровоз загонял наш офицерский вагон в какой-то тупик на станционных куличках.
Еще до своего отпуска я слышал, что председателем здешнего горсовета работает Аринич, тот самый Роман Андреевич Аринич, которого я знал по гвардейской дивизии.
Майор Аринич проделал со своим полком путь от Оки до Немана, и мне довелось за два года не раз бывать у него в гостях. В гостеприимстве его и сердечности я бывал уверен, даже когда разговаривать ему со мной было некогда, а угощать — нечем.
«Вот и хорошо! — весело думал я, шагая по шпалам к станции. — Проведаю Аринича. А не застану — осмотрю городок».
Я помню этот городок в час, когда он только что был отбит у немцев. Пахло гарью и трупами. Саперы перерубали надвое крышу, сорванную взрывной волной с дома и брошенную поперек улицы. Кони, выпряженные из орудийных запряжек, оттаскивали убитых лошадей и разбитые повозки, загромоздившие улицу настолько, что она стала непроезжей. На базарной площади чадил обугленный танк с черным крестом на башне.
Очевидно, у всех, кто вызволял из неволи пусть даже совсем незнакомый город, на всю жизнь остается к нему невыразимая нежность, острый интерес к его судьбе, к его будущему.
Городок и раньше не мог похвастаться обилием достопримечательностей, если не относить к ним колодца на базаре с волшебной родниковой водой и каких-то особенно долговязых подсолнухов; они сутулились и кивали желтыми головами из-за самых высоких заборов. Это был провинциальный городок с несколькими мощеными улицами, с козами, которые проводят на улицах большую часть своей жизни, с карликовой пожарной каланчой, с милыми белорусскими девчатами, которые разгуливают в цветастых платках и неутомимо лузгают семечки.
В конце войны городок приобрел почетную известность, и название его стали часто склонять в военных академиях. В окрестностях этого городка выкипел до дна один из самых больших немецких «котлов».
И сейчас еще на привокзальной площади и дальше, на улицах, то и дело виднелись разбросанные по прихоти боя немецкие танки, пушки, цуг-машины, бронетранспортеры.
Центр города лежал в руинах. На карнизах и на подоконниках печально зеленела трава. От решетки несуществующего балкона к ухвату, который когда-то придерживал водосточную трубу, а сейчас праздно торчал из стены разрушенного дома, через улицу была протянута веревка. На ней безмятежно сохло белье. Куры деловито разгребали мусор на пожарище, и от вечной возни в золе перья на груди и на ногах стали черными.
Но чем печальнее была панорама города, лежащего в каменном прахе, с тем большей жадностью ловил глаз приметы неугасимой жизни.
Вперемежку с почерневшими телеграфными столбами стояли свежеотесанные. Рядом с головешками белели новые доски. В мертвых, на первый взгляд, домах множилось число окон, размером с форточку. Августовское предзакатное солнце золотило эти оконца нежаркими лучами.