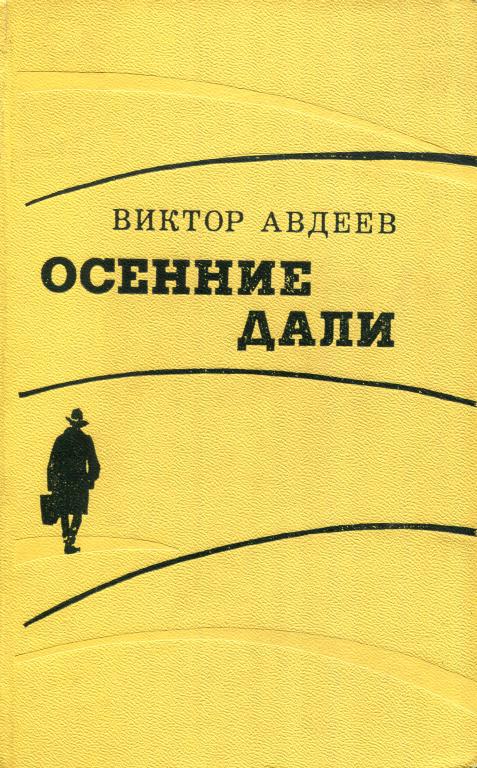достойно встретить бывшего мужа. Не ревнует ли Геннадий к этой встрече? Может, сказал: «Наряжаешься для любимого?» Елизавета всегда умела настоять на своем и тут, наверно, ответила с достоинством: «А ты хочешь, чтобы твоя жена выглядела неряхой?» Вот уж неряхой она действительно никогда не была. Всегда со вкусом одета, всегда деньги учтены до копейки и хозяйство в образцовом порядке. Что в школе — авторитет, что в сельсовете — общественница.
Сам Геннадий возился с телевизором «Рекорд», регулировал звук. Антон Петрович видел лишь его длинную узкую спину, обтянутую вельветовой блузой, и краешек пышного, небрежно повязанного банта, длинные ноги в хорошо отглаженных брюках. На стук входной двери Геннадий не обернулся, хотя, конечно, знал, кто вошел. Елизавета Власовна громко, спокойно спросила:
— Это вы, Катенька?
— Мы с папой обедать.
Попасть в кухоньку можно было только через «светелку». Антон Петрович вытер ноги о ветошный половичок, брошенный у двери, поздоровался:
— Добрый день.
— Здравствуй, Антон.
Елизавета Власовна отложила перо, глянула ему прямо в глаза, и он испытал неожиданное волнение.
«А прав ли я был, что оставил Лизу? — подумал Антон Петрович, идя наискось через избу вслед за дочкой. — И не осиротил бы Катеньку».
Почему он вдруг так подумал? Искренне ли это было? Действительно ли он испытал раскаяние? Может, подействовала красота первой жены, ее былое обаяние? Или вид привычной обстановки разбудил воспоминания о годах молодости и счастья? Геннадий Протасович, словно только сейчас узнав, что в избу вошел первый муж его теперешней жены, повернулся к двери и вежливо поклонился. Бант вокруг шеи у него был черный, шелковый, волосы чуть закрывали уши. Геннадий ничего не сказал, но взгляд его был очень внимателен и холоден.
В это мгновение оба словно оценивали друг друга.
«Видный мужик у моей, — подумал Антон Петрович. — Может, он больше подходит Елизавете, чем я, и с ним она счастливее, чем со мной?»
На стене в футляре висела скрипка. Геннадий музицировал. Вероятно, отсюда и длинные волосы, блуза, бант.
«Говорят только: позер, — поторопился Антон Петрович вспомнить о нем недобрый слушок. — Кутнуть любит».
Как глупо устроен человек! Ему-то зачем нести околесицу о том, кто занял освобожденное им в этой избе место? Ан нет, странный клубок ворочается в груди. Конечно, тут не зависть, не ревность, но ведь что-то же мешает ему запросто, с приязнью глянуть в глаза Геннадию, протянуть руку? Неужели собственничество?
Вслед за дочкой Антон Петрович прошел на правую половину избы, освещенную одним окном. Вдоль стены нависли полки для кастрюль, посуды, задернутые веселой занавеской с розовыми цветочками. В углу приткнулся столик под клеенкой. На столике стояли два прибора, резная деревянная хлебница, прикрытая салфеткой. С другой стороны кухоньки — большая русская печь, чисто побеленная, блестевшая заслонкой. Порядок, аккуратность видны были во всем. Лоснились покрашенные масляной краской две табуретки, деревянный пол.
— Садись, папочка, — негромко сказала Катенька. — Я буду наливать.
Она с удовольствием разыгрывала маленькую хозяйку. Без шубки и ужасной шапки, в новой коричневой форме с белой пелеринкой, дочка выглядела более ладной и уже не казалась Антону Петровичу такой заброшенной. Ее белесые волосы были подвязаны синей лентой, лицо на воздухе разрумянилось. Чисто вымытыми ручками она отдернула полог печи, открыла заслонку, взяла в углу рогач. Подняв плечи, кряхтя, пододвинула чугун, налила в тарелку жирных, вкусно пахнущих щей.
Они сидели рядом за столом, как в прежние годы, ели и негромко разговаривали. За перегородкой было все слышно, поэтому оба снижали голоса.
«Славная у меня Катенька, — с умилением думал Антон Петрович. — Конечно, с матерью ей лучше. Ну, а все-таки… полусирота. И почему так жизнь устроена по-дурацки? Или сами ее усложняем, портим? Сами. Думаем только о себе, забываем о детях».
— Я что-то не хочу мяса, — сказал Антон Петрович и переложил из своей тарелки большой кусок говядины с мозговой косточкой в тарелку дочери.
— Ой, папочка, а я его совсем не люблю, — воскликнула Катенька почти совсем громко. — Хочешь, я тебе и свое отдам? Ешь, пожалуйста.
Так отец и дочка ухаживали друг за другом. Ела Катенька действительно мало, неохотно. Детей всегда надо уговаривать пообедать, выпить молока. Вон она какая худенькая. «А может, за ней не смотрят? — вновь подумал Антон Петрович. — Здо́рово она нужна отчиму? А у Елизаветы вторая дочка: маленьких больше любят. Да и школа, тетрадки, общественная работа».
За перегородкой было слышно, как встала Елизавета Власовна, как вышла из комнаты, хлопнув дверью. Затем хлопнула вторая, дальняя дверь в сенях, и уже рядом, из-за другой стены избы послышался приглушенный голос Елизаветы Власовны. Это она прошла во вторую, угловую комнату пятистенка, где жили ее старики родители.
Словно подтверждая предположение отца, Катенька полушепотом сказала:
— Мама пошла узнать Светку: не проснулась? Светкина кроватка у бабушки.
Обед закончили в молчании. Задав сразу по приезде все необходимые вопросы, Антон Петрович уже не знал, о чем расспрашивать. Да и стесняло присутствие за перегородкой Геннадия Протасовича, то, что разговаривать надо было полушепотом.
— Ты же не ленись мне писать, — с улыбкой сказал он дочке.
— Я всегда тебе пишу.
По старой памяти Катенька пристала к отцу, чтобы он что-нибудь нарисовал, подсунула иступившийся карандаш, косо разлинованную тетрадку. Антон Петрович рисовал ей и солдат, и автомобиль, и космическую ракету. Одна из фигурок была худощавая, в очках, с белесыми усами, в пальто с пристежным цигейковым воротником, в сапогах и с дорожным чемоданчиком.
— Это ты? — засмеялась Катенька. — Да-а. Похоже. Я маме покажу.
Близилось время расставания, и чем ближе оно становилось, тем больше жалел дочку Антон Петрович. Теперь она уже не казалась ему неуклюжей, угловатой, получужой. За полдня он успел вновь к ней привыкнуть. Освоилась с отцом и Катенька, весело болтала, рассказывая о школе, о подругах, о мелких происшествиях, которые представлялись ей значительными.
— Пора, пожалуй, собираться, — глянув на стенные ходики и сверив их со своими часами, сказал Антон Петрович.
— Уже? — весело сказала Катенька. — Я пойду тебя провожу.
Никакого сожаления Антон Петрович в ее голосе не услышал. Что значит детство! Он вынул из саквояжика последний подарок — отрез фланельки на платье. Катенька живо, радостно прикинула на себя материю, любуясь ею: какая хорошая выйдет обнова. Поцеловала отца, бережно завернула отрез в магазинную бумагу. Опять надела свою старую шубенку, из которой выросла, нелепый меховой капор-шапку и вновь превратилась в неуклюжую девочку. Но лицо ее за эти часы уже снова стало знакомым до каждой черточки. Это была милая, любимая дочка, с которой больно расставаться. Одевшись у двери, Антон Петрович попрощался с хозяевами. Елизавета Власовна ответила громко,