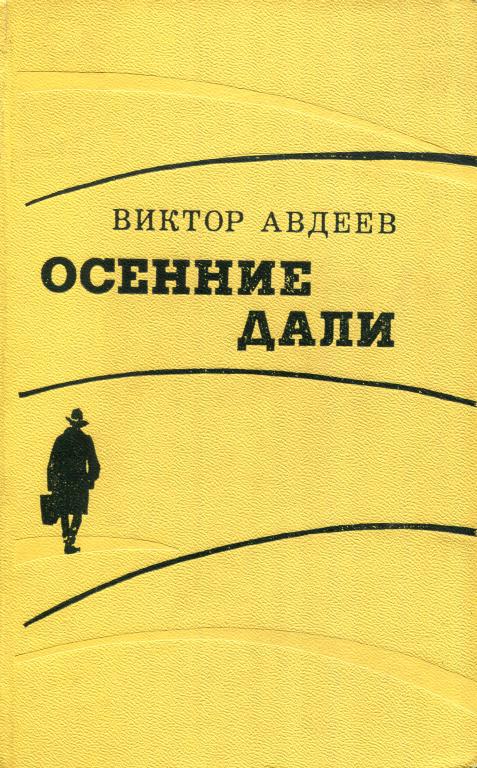Петрович улыбнулся жене. Занавеска опустилась, и он вернулся на заскрипевшее крыльцо.
Сквозь дверь Антон Петрович услышал легкие шаги Глики; щелкнул английский замок, и в следующую минуту он уже целовал ее чуть полуоткрытые толстые и добрые губы, голую теплую шею, глаза, в которых еще бродили сонные видения, с жадностью вдыхал знакомый, волнующий запах ее кожи.
— С ума сошел? — сердито сказала Глика. — В сенях. Люди могут увидеть.
— Пусть видят, — улыбаясь, говорил он, поймав и целуя ее теплую руку, обнажившуюся до локтя.
Осторожно ступая, чтобы не разбудить соседей, они прошли к двери своей квартиры. Антон Петрович замешкался в передней, снимая пальто. Вошел в комнату. Глика зажгла торшер, вновь нырнула в постель, полуприкрылась одеялом. Зеленоватый свет от абажура падал на ее черные растрепанные волосы, грудь, видную в глубоком вырезе ночной рубашки.
— А где Петушок? — спросил Антон Петрович, увидев, что кроватка сына пуста.
— Спит с бабушкой. Вчера купали, она ему сказки рассказывала. Я не захотела перекладывать. — Глика совсем проснулась, смотрела на мужа испытующе, с ожиданием. — Чего раздеваешься? Через час на работу.
— Отдохну немножко, — ответил Антон Петрович, расшнуровывая ботинок, и крепко, сладко потянулся.
— Нечего нежиться. Еще заснешь.
Он видел, что Глика ждет его в постели и говорит из чувства противоречия. Она всегда ревновала мужа после его поездок к дочке в деревню, оглядывала подозрительно, морщила нос, словно хотела обнюхать. Поэтому сердито отвечала и в сенях, хотя была очень рада.
Снимая через голову верхнюю рубашку, Антон Петрович подумал, что все женщины одинаковы и после первого, и после второго брака жизнь у супругов идет по тому же кругу: сперва ненасытные ласки, внезапные ссоры, знаки внимания, потом уравновешенность, привычка, развивающая успокоение, упорное отстаивание своего «я», авторитета. Образ Елизаветы стерся в душе Антона Петровича, его заслонила вот эта скуластая, пополневшая в груди и бедрах молодая женщина. Она ему люба, она ему родная, а та, первая, мила только в воспоминаниях.
— Лижешься, — шепотом и словно бы все еще сердито говорила Глика, отстраняя мужа, делая вид, что не хочет его ласк. — Спи лучше, спи. Лежи спокойно. Насвиданничался со своей Лизочкой?
— Оставь. Сама знаешь, что там все кончено. Должен же я видеть дочку?
— Гаси торшер.
Скоро надо было вставать. Антон Петрович знал это, но дремота смежала глаза. Глика уже спала, уткнувшись ему под мышку, сладко дыша полураскрытым ртом. По признакам, в верности которых она не сомневалась, Глика увидела, что Антон принадлежит ей и со стороны «старой любви» ничто не угрожает. А он тоже лежал счастливый, утихомиренный, наслаждаясь тем, что наконец дома, что все здесь здоровы и всё благополучно.
«Я только минутку, — подумал Антон Петрович. — Будильник заведен». И вдруг перед его глазами как живая встала Катенька в своем меховом уродливом капоре. Она улыбалась ему чуточку жалко и махала рукой в варежке. «Что это? Никак не могу заснуть», — подумал Антон Петрович, не зная, что уже спит. «Катенька! Как живешь, моя деточка?»
I
Орехов в лесу было полно: стоило профессору Казанцеву потянуться за одним, как он замечал целое зеленое гнездо на соседней ветке. По ту сторону куста лещины, сквозь шершавую замшу ее листвы перед ним мелькали то смуглые девичьи руки, то белая блузка Иры Стрельниковой; иногда он ловил на себе взгляд ее карих глаз и всякий раз испытывал такое чувство, словно должен сделать что-то решительное и не знал что. В лесу аукала, со смехом перекликалась разбредшаяся компания из их дома отдыха, всюду слышалось щелканье орехов. От меченых желтизной берез протянулись длинные тени; пеньки выглядывали из травы словно гигантские грибы, в остывающем воздухе мягко тенькала, вызванивала синица.
— Я, собственно, нагрузился, — сказал профессор Ире, показав на свои карманы. — Надо полагать, скоро будет гонг к вечернему чаю.
Она вышла из-за куста.
— Пойдемте обратно?
— А как же Алексей? Нельзя оставлять такого верного рыцаря.
Ира сделала пренебрежительное движение смуглым, по-женски созревшим плечом; она была в сарафане. С другого конца орешника послышался голос Манечки Езовой, ее соседки по комнате:
— Ау, Ирок, отзовись. Ау!
— Видите, — сказал Казанцев. — Я был прав, ваше отсутствие заметили.
Девушка засмеялась с видом школьницы, которой хочется поозорничать. Вдвоем они пошли по лесной дороге. Между деревьями заголубел простор, показались два красных кирпичных столба и полосатый полусгнивший шлагбаум; когда-то, еще при царе, по этой опушке проходила граница двух губерний, а теперь орешник стал границей прогулок из дома отдыха: дойдя до шлагбаума, все неизменно возвращались обратно.
Рядом с девушкой Казанцев почему-то никак не мог забыть свои сорок семь лет и ученое звание. И в то же время, чувствуя на себе ее наивно-расширенные, ожидающие глаза, он говорил с тем подъемом, который испытывает человек, когда на него обращено очень дорогое ему внимание.
— Вы спрашиваете, много ли я работаю? — говорил Казанцев. — А как же? Есть ли что на свете интересней и благородней труда? Прошедшие века похоронили множество эпох, стран, народов. И что от них оставила нам история? Руины, монеты с изображением тиранов, черепки домашней утвари, то есть памятники труда. Все бренно на этом свете — и власть меча и власть злата, а вечен только труд: он один движет культуру. Не тщеславным венценосцам обязаны мы познанием древности, а рукам рабов.
— Да, конечно, — кивнула Ира. — Я вот тоже как приготовлю задание, спокойнее чувствую себя в техникуме.
Она вообще спешила во всем согласиться с профессором, и стоило ему заговорить, как она кивала головой, точно подхватывая его мысль с полуслова. «Влюбленные студенты таких девушек принимают за родственные натуры», — подумал Казанцев. Ира так благоговела перед его «трудами», о которых никогда не слышала, перед самим званием «профессор», что ему иногда становилось неловко.
— Освоение профессии — это самое прочное наше приобретение в жизни, — продолжал Казанцев. — Близкие люди могут изменить: жена найти более привлекательного мужчину и уйти к нему; друг, раздосадованный вашей удачей, — отвернуться; родная дочь — бросить вас ради любимого, а труд всегда останется с вами, и в нем вы найдете поддержку и отраду.
Опустив голову, Ира старалась идти в ногу с профессором. Ее черные, слегка выгоревшие спереди волосы, заплетенные в две толстые короткие косы, открывали смуглый низкий лоб. Нос с горбинкой от веснушек выглядел темнее, полные красные губы были сложены надменно. Казалось, Ире хочется шумно порезвиться, побегать, похохотать и она всячески сдерживает себя.
— Ох, — весело вздохнула она, — как вы интересно говорите! Сколько для этого, наверно, разных научных книг проштудировали… целую библиотеку.