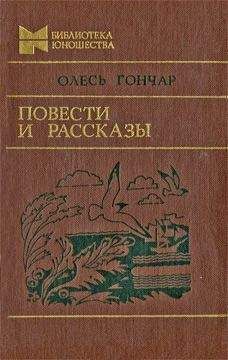На арене, правда, еще ни быка, ни человека, хотя всюду в амфитеатре царит напряжение и беспокойство, бурлит возбужденный гул нетерпеливых многочисленных болельщиков, которые все до единого жаждут, чтобы все произошло быстрее, произошло яростно и жестоко, с острейшими опасностями, с меткими ударами, с кровью такой, чтобы брызгала с арены во все стороны, прямо в глаза трибунам!
Жанетта проводит нас на заказанные ранее места, на панбархат наш никто не обращает внимания, издали завидев нас, энергично подают знаки молодые хлопцы из мэрии, вместе с ними приветливо машет рукой нам седовласый, с красивой осанкой человек — председатель местного отделения Общества дружбы, добрый наш знакомый, с которым мы уже успели подружиться за дни пребывания здесь. В прошлом он военный летчик, именно от него услышали мы удивительную историю, что произошла когда-то в авиаполку «Нормандия — Неман», где и наш знакомый во время войны не раз поднимался в небо, чтобы вступить в бой с фашистскими стервятниками. Вот тогда и произошел случай, о котором хорошо было бы узнать всем этим безусым болельщикам, безумствующим рыцарям корриды… Хотелось бы, чтобы каждому здесь стало видно, как летят в небе двое, хотя наземные службы считали, что летит там один… Когда во время наступления летчики, меняя аэродромы, перегоняли свои самолеты вперед, случалось иногда так, что, скажем, Пьер или кто-то другой, вопреки правилам, без ведома служб, бывало, прихватывал на борт и своего наземного механика, буквально «упаковывал его в фюзеляж», как выразился этот наш знакомый за ужином накануне. Именно так и летели они вдвоем, и когда попали под зенитный обстрел, когда струей горячей смазки ударило ему в лицо и сквозь дым и пламя услышан был по радио приказ с земли: воспользовавшись парашютом, покинуть самолет — разве мог он такое сделать? Разве мог прибегнуть к парашюту, зная, что рядом с ним, доверившись ему, закупоренный в фюзеляже, без парашюта летит его механик и друг Иван Полтавец? Сели-упали на пашню, и пусть израненные оба, но не ушли в небытие, остались вместе для жизни…
— Вот это дружба, — только и молвила Анна Адамовна, выслушав во время прогулки рассказ нашего французского друга. Весь вечер мы были под впечатлением услышанного, а сегодня и друг наш предстает перед нами словно иным, на корриде он появился в настроении приподнятом, никакой печали и горя в глазах, наверное, солнце и небо лазурное, небо удивительно светлое и высокое, эти кипящие жизнью трибуны — все вместе, видимо, придает нашему другу радостной душевной энергии, втягивает в другую стихию, где человек жаждет веселья, хочет забыться, пусть на время освободив себя от тысяч и тысяч будничных напряжений… Можно ли кого-либо винить за это? И разве мы сами не становимся сейчас такими же, очутившись здесь, где хмель жизни действует на нас опьяняюще, где эта дикая, веселая, тысячелетняя коррида так властно будоражит и захватывает душу каждого!
Парни из мэрии уже возле нас, Жанетта, поручив нашему седому другу-летчику быть сегодня при Анне Адамовне в качестве кавалера, сама тут же удаляется, ибо ей, мы понимаем, не до корриды, ей снова надо бежать кормить малыша.
На арене происходят последние приготовления, появляются молодые люди в каких-то странных, похоже, еще средневековых одеждах, у каждого из них своя роль и свои обязанности, наш месье Пьер пытается деликатно объяснить Анне Адамовне и нам, непосвященным, самые элементарные вещи, касающиеся корриды; мы слышим такие словечки, как бандерилья, тореро, но они для нас мало что значат. Вероятно, чтобы корриду постигнуть, нужно не один год посещать эти трибуны, яростно выкрикивая вместе с другими краткое, непонятное нам:
— Оле! Оле!
«Оле» — это на корриде, очевидно, возглас ободрения, словцо это сплачивает в единой страсти, во взрывах азарта все эти десятки тысяч людей, теснящихся сейчас на трибунах друг возле друга в напряженном возбуждении, в нетерпеливом ожидании событий на арене. Помимо французов, здесь много испанцев, а также прибывших на сезонные работы итальянцев, и всех их на трибунах уравнивает, объединяет это неистовое, требовательное:
— Оле!
Постепенно и нас захватывает настроение возбужденных, наэлектризованных трибун, их нарастающая жажда зрелища, для всех присутствующих сейчас словно самым важным в мире становится этот момент — выход быка на арену.
Вот он!
Нет, это не Султан-тяжеловес, что когда-то бодал нашего нынешнего руководителя делегации; легконогий красавец, черный как смоль, появляется откуда-то, будто из туннеля, и, выбежав, резко останавливается среди поля, поигрывая мышцами, черно лоснящейся грудью, стал и ждет: ну-ка, кто способен со мной сразиться?
— Ах, каков, — в восторге шепчет подле меня Михаил Михайлович. — Сумели же взлелеять…
Красавец и вправду такой, что глаз не оторвать, он из быков местной породы, которых в устье реки на свободе выращивают специально для боев на арене. Давняя кровь, порода столетиями совершенствовалась, собирая в генах силу, и отвагу, и стать. Вырос и этот где-то там, в русле раздольной Роны, вольным сыном ее вырастал в плавнях под небом вечно голубым, не зная ни пут, ни ярма, пока здешние ковбои верхом на белых лошадях не отбили, отделили его от гурта и гоном прогнали через весь городок, каменный, с узкими средневековыми улочками, где публика ревела от восторга, дети и женщины просто ошалели, увидев его, будто этот смолисто-черный плавневый красавец, пробегая, мог изменить всю их судьбу. Когда запыхавшийся бык, эскортируемый всадниками на белых лошадях, сремглав проносился по улочке между крылечками и балконами, местные мальчишки и даже женщины-горожанки, сатанея от радости, пытались ухватить бегущего быка за кисточку поднятого вверх хвоста, потому что это считается счастливой приметой, — ради одного такого прикосновения стоило рисковать!.. Но вот уже во всю мочь прогнали его через городок, загнали в надежное бетонированное стойло, дали отдышаться, привели в порядок, приготовили к бою, и сейчас он, гладиатор из бычьего племени, застыл посреди арены, сильный, стройноногий, грудастый, в глазах у него — ей-же-ей, гордость, отвага, обращенное к трибунам бесстрашие…
— Есть в нем казацкое что-то, вы не находите? — слышу шутливую реплику подле себя.
А ведь и вправду есть, словно у того пращура нашего, который выходил когда-то погулять по полю Килиимскому и, вызывая противника своего на поединок, шутил с ним, приговаривая: «Гей, татарин старый, бородатый, что на двух конях плешивых за мной гонишься, да не буду же я так зол на тебя, как ты на меня, ведь ты хотел меня взять и полный шлык червонцев за меня в Килии набирать…»
— Оле! Оле!
Трибуны ревут… Тьма-тьмущая людей ревет, неистовствует, множество ослепленных, орущих, опьяненных страстью, жгучестью зрелища дали себе волю, кричат отовсюду, яростно подбадривают они тех, кто на арене, кому главная забота сейчас раздразнить быка, потому что свирепость его кажется им недостаточной, участники боя хотят вызвать в нем злость еще более яростную, дикую, зверскую. А поскольку и сами они при этом рискуют собой, то это придает действу особый привкус опасности, беды, вожделенной остроты.
Дразнят его цветом, выкриками, жестами, стальные гарпуны уже впиваются ему в тело… Взращенный на свободе четвероногий красавец реагирует на это неохотно, он сохраняет достоинство, он, видимо, готов выдержать все.
Анна Адамовна неотрывно следит, как те молодцы в панталонах, увиваясь возле быка, назойливо дразнят и дразнят его на все лады, как прытко, шустро отскакивают от него, уклоняясь от его ударов, нанесенных будто нехотя, изредка, зато таких, что, кажется, вот-вот кому-нибудь из участников игры придется распрощаться с жизнью.
Наконец им удается его раздразнить. Бык, рассвирепев, зверем бросается на людей, пригнув голову, мечется сюда и туда, гонится по арене то за одним, то за другим, а наибольший восторг трибун вызвал тот миг, когда самого настырного из матадоров бык таки подхватил рогом и метнул в воздух, отбросил куда-то далеко на трибуны, хотя не исключено, что этот опасный трюк был так и задуман заранее.
— Тоже нелегкий хлеб, — говорит Михаил Михайлович, имея в виду аренных тех парней, но Анна Адамовна, к которой он обращается, лишь сжимает нервно в кулачке — свой влажный, надушенный парижскими духами платочек.
Действительно, все труднее приходится тем, кого бык гоняет по полю, но и сам он, храбрый рыцарь, постепенно устает, тяжелеет, кровь с него густо капает, ведь метким ударом шпагу в него таки вонзили — глубоко вонзили! — и она дрожит у него на загривке. Да, заметно теряет он силы, все чаще спотыкается, гоняясь за кем-то из тех, кто его дразнит, снова и снова будоража в нем зверя. Измученный, обессиленный уже так, что и ноги под ним подкашиваются, он все же остается непобежденный! Вот вроде совсем падает от изнурения, однако, упав, опять поднимается, чтобы дальше, из последних сил вести этот неравный бой, что и задуман был как неравный… Думают, что уже конец ему, а он, насупившись, вновь тяжело идет на противников, хотя кровь из нанесенных ран капает и капает, кажется, вся арена уже алеет, скипается перед нами этой жаркой, пылающей, отважной кровью.