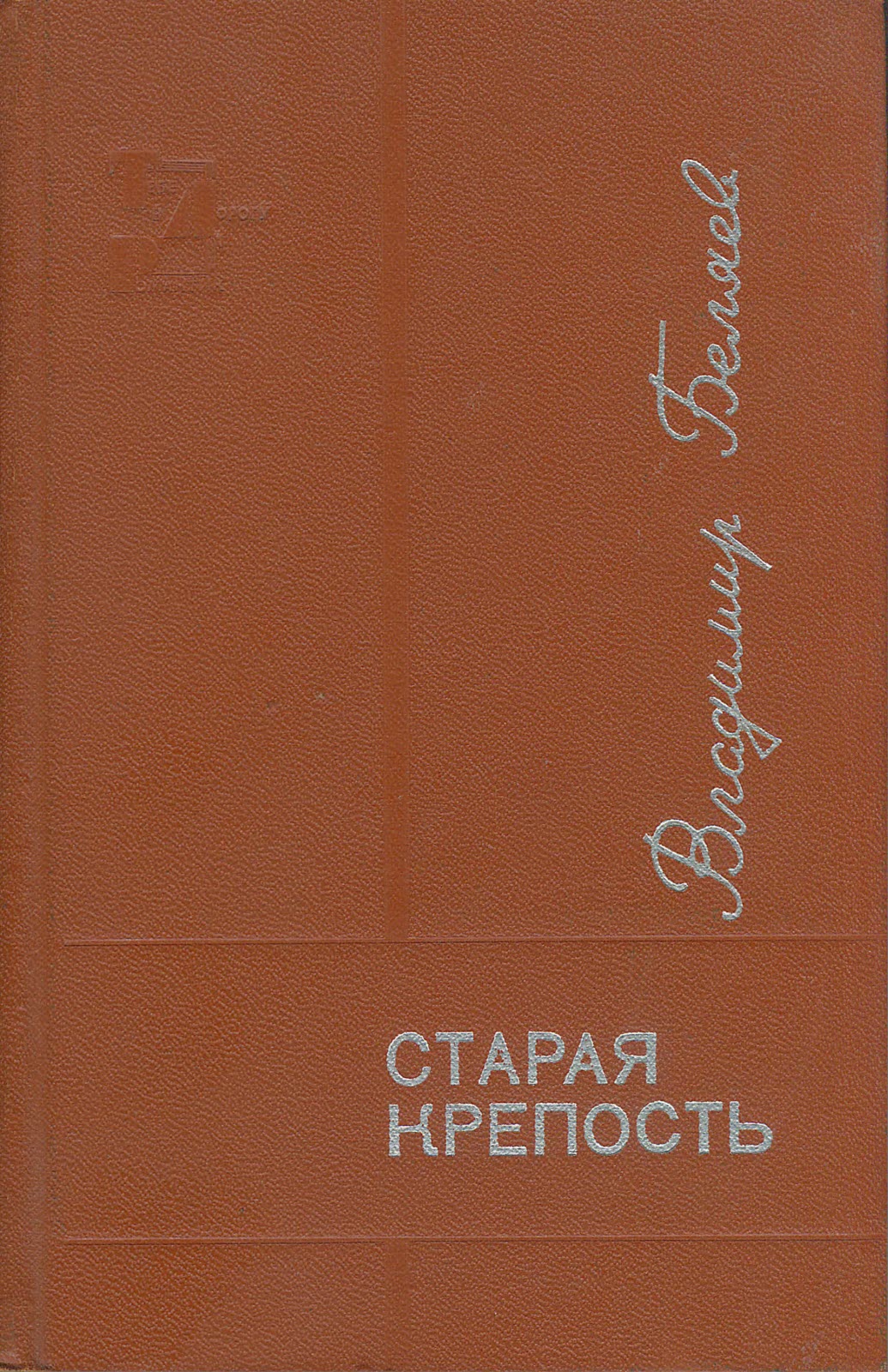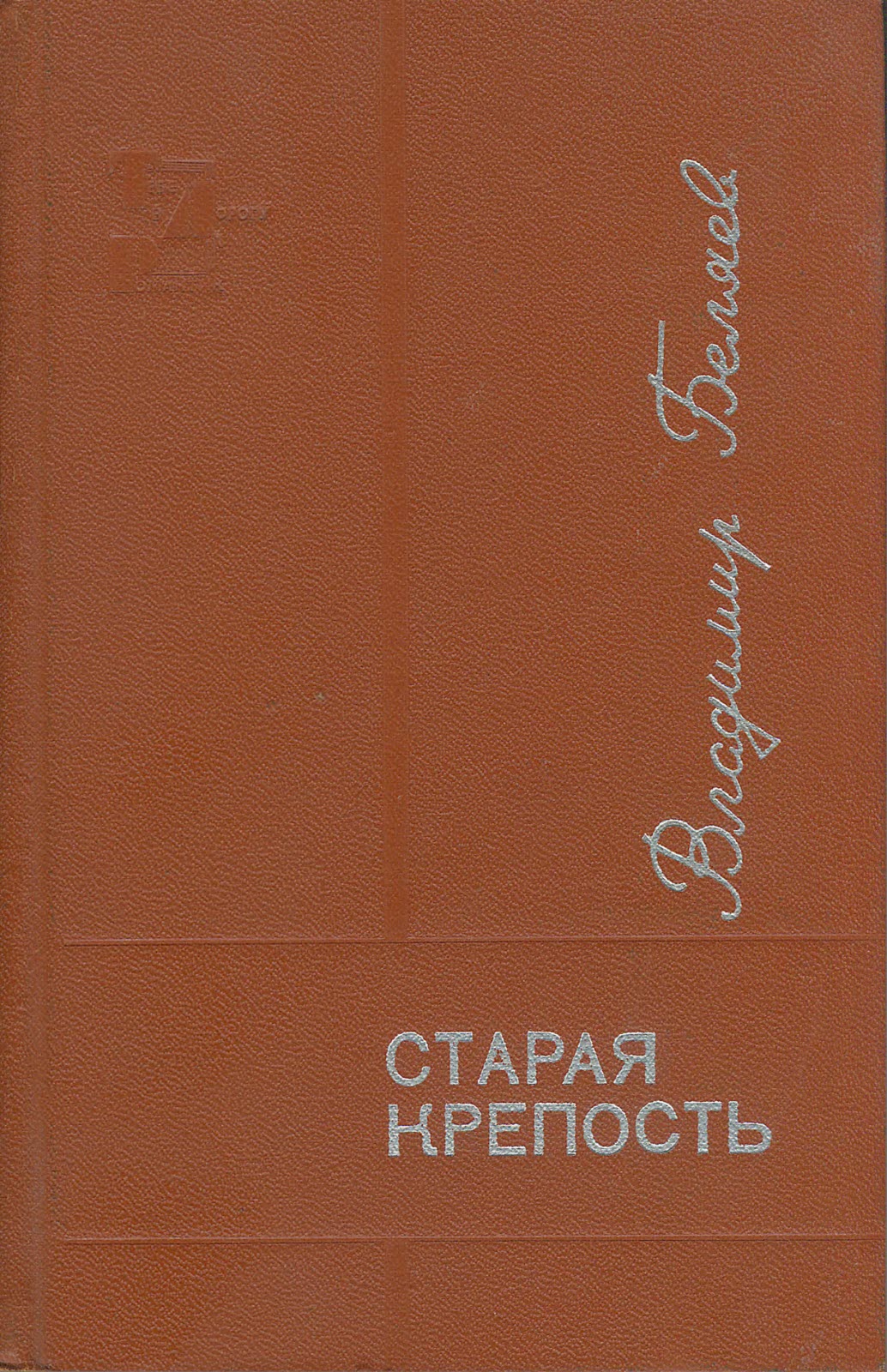карточку номер и отдадут.
— В какую чоновскую карточку? Я же еще не комсомолец!
— Ну это, брат, сейчас только формальности остались, — сказал уверенно Марущак. — Выздоравливай только поскорее!
— И на собрание приходи! — добавил Никита важно. — Там посмотрим, взвесим, разберем!
— Да, приходи! — протянул я, вспомнив обиду, которую нанес мне когда-то Коломеец. — Я приду, а ты снова выгонишь.
— У-у-ух, какой ты злопамятный, — протянул, смеясь, Марущак. — Не бойся, мы на этот раз другого председателя выберем, доброго.
— А я, по-твоему, кровожадный? — спросил Коломеец.
— Ну ясное дело… — сказал Марущак шутливо.
В эту минуту две санитарки с грохотом вкатили в палату высокую тележку на роликах. При виде этой тележки у меня сжалось сердце, я сразу забыл про моих гостей.
— На перевязку! — объявила полная голубоглазая санитарка Христя.
— Разве сегодня? — жалобно протянул я. — Лучше завтра. Не надо сегодня!
— Фу, как не стыдно! Такой герой, и перевязок боится, — сказала Христя, наклоняясь близко и подсовывая мне под спину сильную и мягкую свою руку.
Перевязки мне делал сам доктор Гутентаг. Вот и сегодня, когда меня вкатили в светлую перевязочную, он уже стоял наготове, с пинцетом в руках, низенький, скуластый, в надвинутой на лоб белой шапочке. Только санитарки переложили меня с носилок на твердый стол, Гутентаг быстрыми шагами подошел ко мне и сразу схватил меня за ногу. Он стал сгибать ее в колене, щупать. Я, чуть приподнявшись, со страхом следил за цепкими и сильными пальцами доктора.
— Больно? — глухим грудным голосом спросил, наконец, Гутентаг.
— Немножко! — протянул я, жалобно скорчив лицо.
— Немножко не считается, — отрезал доктор и распорядился: — Снимите бинты!
Проворная худенькая сестра Томашевич принялась распутывать бинты. Багровый длинный шрам со следами ниток по краям обнажился у меня на груди в том месте, где было вырезано ребро. Гутентаг глянул на шрам, свистнул и сказал:
— Зажило отлично. Через пару дней можно будет ему уже наклеечку прилепить. Смажете коллодием — и все. Понятно?
Сестра, обтирая шрам спиртом и накладывая на него чистую марлю, понимающе кивнула головой.
Все было ничего до тех пор, пока она, перебинтовав мне грудь, не взялась за кончики бинта на голове. Уже заранее я закусил нижнюю губу и заелозил ногами по столу.
— Что это за фокусы? — грозно спросил Гутентаг и нахмурился.
— Больно, доктор! — заныл я сквозь зубы.
— Злее будешь, — бросил доктор. — В следующий раз не дашь, чтобы тебе под ноги гранаты бросали. Тоже вояка! Сам должен целехонек быть, а врага — на землю. Понял?
Я понял, что доктор заговаривает мне зубы, и со страхом прислушивался, как сестра Томашевич легкими и быстрыми пальцами разматывает бинт: все меньше и меньше оставалось его на голове, и вот, наконец, последний хвостик мелькнул перед глазами. Я зажмурился. Теперь начиналось самое страшное: сестра начала потихоньку отдирать подушечки, наложенные на раны.
— Ой, ой, ой, ой! — заныл я. — Тише, ой!
— Терпи, терпи, — бубнил где-то рядом доктор.
Я уже не видел доктора, не видел сестры, глаза мне застилали слезы, они лились по лицу, соленые, горячие, я слизывал их языком с губ.
Это было очень больно, когда сестра отдирала тампоны, они присохли к выросшим вокруг раны волоскам, я вертелся на столе от боли, махал руками, подвывал.
— Ну, будет! Слышишь, все уже, все! — кричал мне в ухо Гутентаг, но я все еще лежал, болтая ногами, ничего не слыша и подвывая.
— Видите, — тихо сказал доктор сестре, — обошлись без трепанации черепа, и все хорошо получается. Крепкий парень! — Он похлопал меня по ноге.
Хорошо было возвращаться в палату после перевязки: предстояли два дня спокойной жизни без мучений.
Длинные, покрытые кафельными плитами коридоры тянулись через все здание, тележка грохотала на этих плитах, проплывали мимо узкие сводчатые окна, за ними виднелось синее-синее небо, далеко, за Должецкий лес, опускалось солнце. Как хотелось мне в эти минуты туда, на волю, в лес, к знакомым хлопцам!
Меня подвозили уже к палате. Я увидел сидящих на дубовой скамейке в коридоре Сашку Бобыря, Петьку Маремуху и… Галю. Галя была здесь! Милая, дорогая моя Галя пришла навестить меня! Я готов был спрыгнуть с носилок, подбежать к Гале, поздороваться.
Маремуха вскочил и, шагая рядом с тележкой, поспешно забормотал:
— Швейцар не хотел нас втроем пускать к тебе, Василь, так я побежал к Гутентагу, и нас пустили!
Петька хотел зайти вместе со мной в палату, но Христя подняла руку и сказала:
— Подождите, ребята. Вот уложим раненого на койку, и тогда зайдете.
Лежа на свежих взбитых подушках, покрытый серым ворсистым одеялом, концы которого Христя аккуратно подоткнула вокруг матраца, я встретил гостей. Первой подошла к моей постели Галя. Я словно впервые увидел ее. Очень она была хорошенькой, самой красивой, самой родной для меня в эту минуту. Она покраснела, смутилась, а кончики маленьких ее ушей побагровели от волнения. Подавая мне теплую руку, которую я пожал, изо всей силы, Галя сказала тихо:
— Ты получил мое письмо, Василь? Я ответила сразу…
— Не получил. Но это пустяки. Получу, наверное. Привезут. Там и вещи еще мои остались, — буркнул я, смущаясь. Не хотелось, чтобы Сашка и Маремуха узнали о нашей переписке.
— А я думала… — протянула Галя. — Очень больно, Василь? — спросила она, кивая на мою забинтованную голову.
— Так себе, — ответил я беспечно.
— А кто тебе операцию делал, Василь? — полюбопытствовал конопатый Бобырь.
— Гутентаг.
— Ну тогда, значит, не больно было. Когда он меня оперировал, я никакой боли не чувствовал, — шмыгая носом, сказал Бобырь.
— Сравнил тоже! — обиделся я. — У тебя простая заноза была, а здесь — видишь! — И я показал рукой на свои раны.
— Ну положим, не простая заноза, а целая щепка, — возразил Бобырь. — Она до самой кости вошла.
— У тебя до кости, а у меня череп разломан так, что мозг видно!
— Мозг? — с ужасом спросил Маремуха.
— Ну да, — ответил я как можно более спокойно. — В двух местах мозг видно. — Я искоса поглядел на Галю.
Она тоже испуганно смотрела на мою перебинтованную голову.
Чтобы поддать жару и выставить себя еще большим мучеником, я сказал небрежно:
— Но это пустяки. Вот заживут немного раны, тогда доктор припаяет мне под кожей такие золотые пластинки. Крепче кости будут!
— Оловом припаяет? — спросил Бобырь.
— Оловом? Нет, зачем… Не оловом… Есть такой… Ну, понимаешь, есть такой клейстер особый. Я забыл название, — едва вывернулся я.
— А ты слышал, Василь, что вашего Корыбко арестовали? Теперь в сад можно будет лазить сколько угодно! — сказал Маремуха. — Я тебе раньше не хотел говорить, потому что…
— Все знаю… — сказал я. — Мне курсанты рассказали… А…