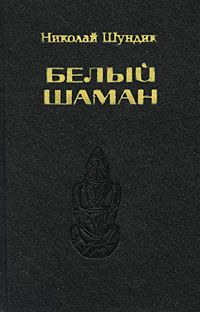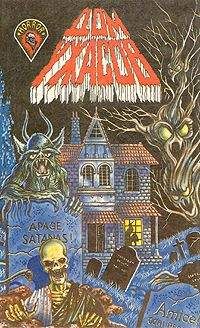Пойгин уверял Журавлёва, что он ни разу в жизни не выстрелил в медведицу и не убил ни одного медвежонка. «Когда я вижу её, говорю: иди, иди себе своей тропой, а я пойду своей. У тебя свои думы – у меня свои думы. У тебя свои дети – у меня свои дети. И если я пролью кровь твоего детёныша – приснится страшный сон моему. А вместе со страшными снами приходят к человеку тоска, помрачение души, болезнь». Журавлёв знал, что чукчи стараются как можно реже убивать медведя и всегда уйдут от соблазна разрядить в хозяина льдов или тундры своё оружие, если к этому не понудят голод или страх перед зверем.
В тот раз, проводив своим странным взглядом ворона и выкурив трубку, Пойгин молча тронул упряжку и предоставил собакам возможность самим выбирать дорогу. Так прошёл, быть может, добрый час. И вдруг Пойгин резко затормозил нарту, осторожно приблизился к торосу, снег вокруг которого был истоптан. То были давние следы умки. Снег тут подтаял, но солнце ещё не могло разрушить снежные столбики медвежьих следов.
– Кажется, тут было целое стадо медведей, – сказал Александр Васильевич, дотрагиваясь ногой до одного из столбиков, торчавшего прочно, потому что снег под лапой медведя плотно спрессовался.
– Нет, тут был один умка, – ответил Пойгин, почему-то с улыбкой осматривая следы. – Весёлый был умка, плясал от радости, вокруг тороса бегал, сам свой хвост догонял. Вот тут он плясал на задних лапах, как человек. Тут перевернулся через голову и подпрыгнул сразу на четырёх. Здесь выгреб снег, а потом валялся в яме.
– Что случилось с ним? Почему он так развеселился?
– Не знаю. Может, нерпа ластами его по животу пощекотала, прежде чем он её съел. А может, он лахтака перехитрил. Тоже умке радость… Правда, не всегда умка бегает вокруг тороса от радости.
– Отчего же ещё?
Пойгин сел на нарту, потянулся за трубкой, долго продувал её, скрёб железным когтем чашечку.
– Случается, что на умку находит безумие. Ждёт-ждёт нерпу или лахтака и только замахнётся, чтобы по голове ударить, – добыча в воду уходит. И тогда начинает умка от ярости по отдушине лапами колотить. Ревёт, колотит как попало. Случается, даже лапы ломает. И тогда ещё страшнее ярость вселяется в умку. Бежит к торосу, лбом в него с разбегу бьёт. И находит на умку помрачение…
Журавлёв опустился на корточки, потрогал оголённой рукой столбик от следа медведя.
– Может, и тут умка бегал помрачённый?
– Этот был весёлый. И лапы целые у него. У хромого умки след другой… Из безумного умки получается къочатко. Из головы къочатко вылетает целая туча воронов. Кричат, мечутся вороны, дерутся. Такие сумасшедшие думы у къочатко.
«Страшновато», – невольно подумалось Журавлёву.
– Больно умке, он лапы себе лижет, и кажется ему, что стал он ребёнком. И тогда къочатко не ревёт, а плачет, как ребёнок. И на его плач отзывается воплями Древовтыкающая женщина. Къочатко спешит к ней, плачет, как ребёнок, грудь её сосёт… И тогда появляется у него необыкновенная сила и становится он ещё злее. Иногда в сильную пургу можно услышать, как вопит Древовтыкающая женщина, как ревёт и плачет къочатко.
«Да, страшновато», – повторил про себя Александр Васильевич.
– А бывает, что из головы къочатко вылетает всего один ворон. Выберет себе человека, летает за ним и всё каркает и каркает над его головой, беду накликает…
Пойгин посмотрел в небо.
– Тебя чем-то встревожил тот ворон? – осторожно спросил Александр Васильевич.
Пойгин промолчал, опять пристально оглядел небо, не донеся трубку до рта.
– В своём безумии къочатко становится медвежьим чёрным шаманом… Он смотрит на луну и думает, что это бубен. Высоко бубен, и къочатко задирает голову, ревёт и колотит куда придётся лапами, ломает себе кости. Больно ему, ревёт от боли и ещё сильнее колотит. Такому лучше не попадаться…
– Ты видел къочатко?
– Нет, только слышал. Когда он ревёт, у всех от страха душа снегом покрывается…
– И у тебя покрывалась?
– А как же. Но я белый шаман. Я знаю, что къочатко – чёрный шаман. У меня к нему ярость. А ярость – это огонь… Снег тает от огня, и страх проходит… Ну, поехали дальше. Скоро разводье.
На этот раз Пойгин направлял вожаков упряжки по какому-то одному ему известному пути. Иногда останавливался у тороса, приметив в сугробе впадину. Он знал, что тут может встретиться отдушина тюленя – лахтака или нерпы.
В марте – апреле тюлени прогрызают колпаки своей отдушины, образованной под глубоким сугробом, сгребают часть снега ластами в воду, строят себе родильный очаг – закрытую камеру. От воды и дыхания тюленя детёнышу его тепло в таком очаге.
Белый пушистый мех малыша ещё способен намокать, и потому для него страшнее всего упасть в воду. Иногда, оставшись один, он сползает в воду и тонет. Но больше всего бед для потомства тюленей – от того же умки или от песцов.
Умка разгребает снег, просовывает лапу в родильный очаг тюленя и вытаскивает детёныша наружу. Бывает, что, прежде чем съесть его, он долго играет им, как кошка с мышкой, подбрасывает, валяет на снегу, щекочет его носом. Обезумевший от страха, тот кричит, а умка поглядывает на отдушину: не покажется ли мать – должна же она прийти на помощь своему детёнышу…
Пойгин проткнул впадину в сугробе, потом обошёл его и обнаружил с обратной стороны ход, проделанный песцами. Разворотив снег, он достал из ямы шкуру нерпы – всё, что осталось от неё после пира песцов. Вплоть до ластов шкура была вывернута, как рукавица, наизнанку и аккуратно очищена острыми зубами песцов от жира. Песцы проедают шкуру тюленя у самого рта и начинают, словно бы из мешка, вытаскивать мясо жертвы, выворачивая при этом её шкуру.
– Большая была нерпа, – сказал Пойгин. Осмотрел следы песцов. – Стая напала – семь песцов.
Журавлёв не удивился, что Пойгин так точно определил количество песцов: для него понять это было так же просто, как Александру Васильевичу прочесть страницу букваря.
Всё выше поднималось солнце. Льды погружались в марево. То там, то здесь возникали миражи: небо становилось гигантским зеркалом, в котором плавали, как в океане, опрокинутые вершинами вниз причудливые торосы. Всё вокруг становилось подвижным, зыбким, и можно было подумать, что ледяной припай уже оторвался от берега и пошёл в свой дрейф. Это порождало в душе Журавлёва безотчётную тревогу и в то же время переполняло его ощущением, что он видит истинное чудо. В растревоженном воображении, таком же зыбком, как всё, что плавилось, перекипало в солнечном мареве, виделись ему призраки белых медведей, стремительные, как видения быстротечного сна. Вот один из медведей приостановился, сел по-человечески на задние лапы, а передними пришлёпнул себя по голове. И взметнулись чёрные вороны – беспокойные думы умки, выпущенные им на волю… Какой удивительный образ! Умка думает. И человек тоже думает. Следит человек за птицей вещей, вылетевшей из головы умки, и пытается понять: в чём смысл её тревожного и настойчивого предостережения? Может, вещая птица напоминает о том, как необходимо человеку понимать душу зверя?
Каркает ворон – но не накликает беду, а остерегает от неё. Далеко-далеко отзывается на голос ворона седой океан. Зародившись где-то в холодной пучине, голос океана наполнялся хрустальным звоном льдов, устремлялся ввысь и, казалось, превращался в фантастические видения арктического миража, во всполохи севернрго сияния. Да, Журавлёв чувствовал Арктику, он был весь безраздельно в её плену…
Вот и сейчас, сидя за столом своего кабинета, Александр Васильевич слышал, как дышит Арктика, как глубок, но и тревожен её сон. И ворон летает над льдами. Смотрит и смотрит Пойгин на вещую птицу, и таким странным, полным непостижимой тайны кажется его взгляд. Разгадать этот взгляд – значит ещё глубже в чём-то постигнуть Пойгина, ещё глубже постигнуть ту истину, что встреча с этим человеком, многолетняя дружба с ним – бесконечно дорогой подарок судьбы. Вот он сидит в кресле кабинета директора школы и ждёт, когда его собеседник отрешится от каких-то важных дум: нельзя прерывать мысли человека…
– Я рад, что вы пришли, – наконец заговорил Журавлёв. Улыбнулся Тильмытилю, перевёл многозначительный взгляд на Пойгина, полез в стол. – Вот письмо от Медведева. Сейчас я переведу на чукотский слова Артёма Петровича о тебе…
Пойгин напряжённо вытянул шею, вникая в то, что говорил о нём в письме старый его друг.
– Значит, и мне Артём скоро пришлёт письмо, – сказал он, чрезвычайно довольный. – Я так понял его слова…
– Да, ты понял правильно.
– Сегодня сам напишу ему письмо. Про Ятчоля напишу. Ятчоль мне сказал, что он стал человеком, который боится мороза. Вот я и думаю, что делать. Прогонять с нашей земли мороз или прогонять страх перед морозом у таких, как Ятчоль?
Тильмытиль засмеялся, оценив шутку Пойгина. Тот строго посмотрел на него и добавил: