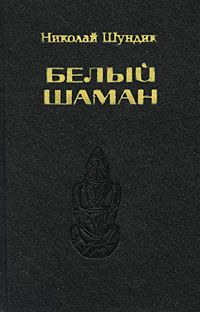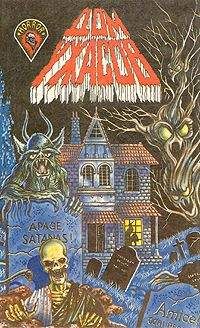Николай Шундик
Белый шаман
Пойгин курил трубку и думал: почему он пригласил Ятчоля на охоту? Этот ли человек, с которым он всю жизнь враждовал, достоин его великодушия? Между тем от сочувствия к Ятчолю, от сострадания к нему даже, кажется, смягчался мороз; а он такой свирепый, что порой раскалывает с гулом ледяные громады морских торосов. Прокатится гул, и снова тишина — слышно, как стучит собственное сердце. Может, это не сердце, а Моржовая матерь стучит головой в ледяной покров моря? Как это важно — не ошибиться, не выстрелить в Моржовую матерь: иначе это будет похоже на выстрел в собственное сердце.
Она добра, очень добра, Моржовая матерь. Лед над морской пучиной для нее все равно что огромный бубен. Она без устали колотит головой в этот бубен, отгоняет злых духов — келет — от морского берега, тем самым оберегая людей от беды.
Пойгин вслушивается в подлунный мир, внемлет звукам ледяного бубна, в который колотит Моржовая матерь. Она добра, очень добра. И Пойгин добр. Не потому ли так усердны его собаки? Больше всех старается прирученный волк Линьлинь. Правда, похоже, волк все-таки обижен тем, что и сегодня не он ведет упряжку, но что поделаешь: стар уже, трудно ему, слепому, чуять самую верную дорогу в нагромождении вздыбленных льдов.
Стар Линьлинь. А кажется, не так давно это было: положил Пойгин перед волчонком печенку нерпы, почки ее и сердце — если набросится звереныш на печенку, это покажет, что у него такая непокорная волчья сущность, что его не приручит даже самый добрый человек; если выберет почки, значит, податлив будет на дружбу с человеком; если предпочтет сердце — совсем хорошо: есть надежда, что станет ручным, будь только сам человеком, имеющим сердце. Волчонок выбрал сердце, по крайней мере, так показалось Пойгину, хотя Ятчоль уверял, что звереныш впился зубами сначала в печенку. Однако Пойгин решил в душе, что приручит волчонка, даже если бы оказался прав Ятчоль, и дал ему кличку Линьлинь — сердце.
Пойгину запомнилось еще с детства, как приручал волчонка его дед. «Ты думаешь, все дело в том, чтобы волка сделать добрым? — спрашивал он не однажды внука. — Это верно, однако еще не совсем. Больше всего истины в том, что человек при этом должен изгнать дикого зверя из самого себя».
О, сколько раз потом вспоминал Пойгин эти слова, когда приручал Линьлиня. Порой приходил в отчаяние. Но корил больше себя, чем волка, горько размышляя о том, как мало похож он, Пойгин, на деда, как малы в нем силы добра. Однако шло время, человек и зверь все заметней сближались именно потому, что проявляла себя сила добра человека, перед которой ничто устоять не может.
Ятчоль не верил, что волк покорится, ревниво наблюдал за каждым его шагом и взглядом; а когда убедился, что сосед добился своего, сказал ему: «Все дело в том, что ты шаман, имеешь тайную власть над всеми зверями, входишь в особый сговор с каждым из них, а это может пойти во вред людям».
Больше всего не выносил Ятчоль глаза Линьлиня. Уверял, что взгляд волка прокалывает ему душу, и вся она уже в дырах, и дальше терпеть он этого не может: душа не торбаса, не кухлянка, ее не залатаешь. Ятчоль писал заявления в сельсовет, в район, даже в округ, требуя, чтобы заставили Пойгина убить волка, ходил к врачам, просил заключение, что душа его действительно вся в дырах, пусть будет справка врачей, как он выражался, «вечественным доказательством». Но никто не хотел внимать жалобам Ятчоля, и тогда он во спасение собственной души выколол волку глаза. Произошло это в ту пору, когда Пойгина унесло далеко в море на льдине, и уже не осталось никакой надежды, что он вернется. Ятчоль никому не сознавался, что совершил зло над волком, глубокомысленно рассуждал, что Линьлинь сам себе выколол глаза об острые выступы морских льдов: «Вы, конечно, все замечали, как он ходил к берегу и высматривал хозяина, вот, наверное, и разозлился на свои глаза, что они не способны увидеть его».
Имя Пойгина, которого скорее всего уже поглотила морская пучина, Ятчоль произносить боялся: тот, кто погиб в море, должен исчезнуть из памяти знавших его. Но Пойгин вернулся. Льдину, на которой он плавал, опять прибило к береговому припаю. Он, конечно, догадался, что ослепил волка именно Ятчоль; потом сосед и сам в этом признался. Но сегодня Пойгин не хотел думать о прошлом, сегодня он прощал даже это зло.
Нарта стремительно скользит по снежному насту, весело повизгивая полозьями. Пойгин любит как бы вступать в беседу со своей неумолчной нартой. «Поёшь?» — «Пою, пою». — «О чем так длинно поешь?» — «Обо всем, что у тебя на уме». — «А что сейчас у меня на уме?» — «Что ты добрый, готов забыть все обиды, готов все простить даже Ятчолю, не зря же вчера пригласил его на охоту».
Пойгин сочувствовал Ятчолю и потому, что у него ленивые собаки, и потому, что сам он ленив. Вот пришла пора подсчета, кто сколько добыл песцов, лисиц, кто сколько добыл нерпы, лахтаков, моржей; пришла пора громкого объявления охотничьей удачи и неудачи, пора объявления охотничьего почета и позора. И опять почет ему, Пойгину, а позор Ятчолю. И грызет сейчас Ятчоля зависть, зависть к Пойгину. А это, наверное, больно, когда тебя грызет голодной волчицей зависть, очень больно. И главное, ничем тут не поможешь человеку, особенно, если он больше всего завидует именно тебе.
Вспомнилось Пойгину, какими глазами смотрел вчера Ятчоль, когда увидел на его груди Золотую Звезду. Оказались они один на один в доме Пойгина. Ятчоль протянул чуть дрожащую руку к звезде и тихо сказал, судорожно улыбаясь:
— Она будто Элькэп-енэр.
Это диво просто, какие он хорошие сказал слова, но почему он так противно улыбается?
Элькэп-енэр! Самая главная звезда, неподвижная, как вбитый в небо гвоздь. Самая главная звезда, вокруг которой вращается все сущее в мироздании.
— Как же это тебе, шаману, дали такую звезду? Героем назвали, великим охотником?
Сколько хрипоты в голосе Ятчоля, болезненной хрипоты, словно бы человек вдруг простудился. Не от холода — от зависти человек простудился. Может, не только от зависти? Всю жизнь он хотел сделать худо Пойгину, всю жизнь будто капканы ставил на него. Хитроумные капканы. Иные, случалось, защелкивались. Пойгин рвал капканы и шел дальше тропою, которую снова и снова пытался перебежать Ятчоль.
— Отчего это у тебя стал вдруг таким простуженным голос? — удивился Пойгин, невольно прикрывая звезду на лацкане пиджака, в котором летал в Москву.
Ятчоль потрогал кадык, прокашлялся.
— От злости голос захрипел, — откровенно признался он. — Тебе почет, а мне что? Тебе Элькэп-енэр повесили на грудь, а в моем очаге пусто.
«Сейчас взаймы денег попросит», — догадался Пойгин.
И действительно, Ятчоль скосил лисьи глазки и сказал:
— Дал бы взаймы пять рублей.
— Ты когда-нибудь долг отдавал?
— Зачем? Ты великий охотник. У тебя всегда в охоте удача…
— Тогда надо говорить: не дал бы взаймы, а подарил бы пять рублей.
— Можно и так.
— Но ты купишь не еду, а спирт.
— Приду домой, на цепь себя посажу, как собаку, чтобы за спиртом не уйти. Деньги жене отдам.
— Знаю я твою цепь, — печально сказал Пойгин и полез за деньгами. — На. Только, если напьешься, я снова с тобой что-нибудь шаманское сотворю…
— Я на тебя суд навлеку, — вяло погрозил Ятчоль, усаживаясь на корточки у стола.
Пойгин сел. Ятчоль приметил, как свободно он откинулся на спинку стула.
— Совсем как русский на стуле сидишь, — сказал он почему-то обиженно.
Пойгин вдруг тихо рассмеялся. Ятчоль протянул ему раскуренную трубку, спросил:
— Чем я тебя рассмешил?
— Да вспомнил, как ты старался быть похожим на других белолицых. Помнишь, прозвище тебе дали — Кэлитуль?
Ятчоль глубоко затянулся, ответил бесстрастно:
— Давно было. Очень давно. Боялись тогда меня. Все боялись. — После долгого молчания с тяжким вздохом добавил: — Кроме тебя.
Да, то было давно, еще когда американские купцы беспрепятственно приплывали к чукотскому берегу. Ятчоль стал их пособником. Умел хитрый человек перенимать повадки чужеземных людей, не зря имя такое носил - Ятчоль — лиса. Купцы на клочках бумажек помечали палочкой, оставляющей след, имена охотников, с умыслом помечали: посмотришь на тонкую бумажку — так себе, почти паутинка, чего бояться ее, а страшно! Все дело было в немоговорящих знаках (буквы и цифры называются): человек может забыть, сколько шкур купцу за чайник обещал, а бумажка помнит. Завел себе такие бумажки и Ятчоль. И палочку, след оставляющую, завел, ножом аккуратненько все время заострял. И уж как Ятчоль кичился своим превосходством над всеми, кто не понимал тайны немоговорящих знаков! А кто мог понимать в ту пору разговор по бумаге? Сам он мало-мальски знал только те знаки, которые числа обозначают и еще несколько американских слов.