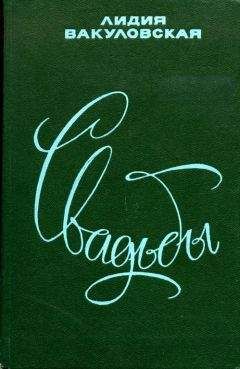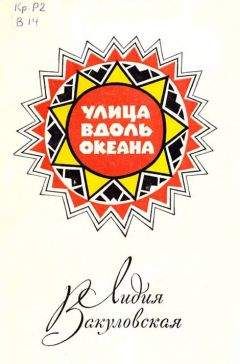Груня отошла от кассы к бачку с водой. Нацедила полную кружку, решительно отстранила от кассы другого мужчину и плеснула кружку воды прямо в лицо кассирше Фросе.
Кассирша завизжала как резаная и выскочила из кассы — наверно, посмотреть, кто здесь сошел с ума. Но глаза ей заливала вода вместе с краской, смытой с ресниц, и она ничего не могла увидеть. Груня же, не мешкая ни секунды, ухватила ее за крашеные волосы и затрясла в своих костлявых руках с такой силой, что, казалось, голова кассирши вот-вот слетит с плеч.
— Будешь знать, как чужих мужей приваживать!.. Я тебя научу, сучка поганая!.. — монотонно приговаривала Груня, тряся кассиршину голову. — Он тебе в отцы годится, а ты — отбивать?!
Первым опомнился вагонный смазчик Безручко, которому Груня невзначай наступила на ногу своей искривленной туфлей сорок пятого размера. А за ним опомнились и другие, и все вместе начали отрывать Груню от визжавшей кассирши. Из кабинетов сбегались сотрудники, появился и сам начальник депо. Женщины бросились к полумертвой кассирше, вытирали ей платочками лицо, приглаживали волосы.
— Кто вы такая? Почему дебоширите в государственном учреждении? — закричал Груне начальник депо.
— А вам какое дело? — зыркнула на него страшными глазами Груня. И сказала кассирше: — Смотри, Фроська, еще раз примешь его, я с тобой не так рассчитаюсь!
— Ты, полоумная! — дернул ее за руку смазчик Безручко, у которого сильно ныла нога, попавшая под искривленный каблук Груни. — Какая она тебе Фроська? Та в Крым по путевке давно уехала. А ну, вон отсюда, пока мы тебя не вышвырнули!
Груня позеленела. Рот у нее перекосился.
— Извиняюсь, — как-то брезгливо сказала она. — Ошиблась, значит. — И пошла солдатским шагом к выходу.
Полумертвая кассирша Зина, заменявшая уехавшую в отпуск Фросю Кульгейко, повела вокруг безумными глазами и сказала:
— Я утоплюсь… Я обязательно утоплюсь… — и сделала несколько шагов, желая, видимо, идти топиться.
Ее не пустили. Ее повели под руки в кассу, взяли ключи, заперли кассу, опечатали дверь. И опять повели ничего не смыслившую Зину, но теперь уже в медпункт.
Тогда наконец все окончательно пришли в себя и стали бурно выяснять, кто такая эта сумасшедшая, кто ее муж, при чем тут отдыхавшая в Крыму Фрося Кульгейко, и как вообще все это понимать?
Спустя час о случившемся трезвонил весь городок.
Саша прибежала домой со слезами на глазах. Она все узнала в аптеке (летом Саша закончила фармацевтический техникум и вот уже полмесяца работала в городской аптеке, в штучном отделе). Приходившие за лекарством женщины переговаривались меж собой и называли имя ее матери. Саша отпросилась у заведующей и побежала домой.
Мать кормила в сарае кабанов.
— Мама, это правда? — дрожащим голосом спросила Саша, заходя в сарай. — Ты избила женщину?
— Правда, — смиренно ответила Груня.
— Как тебе не стыдно! Ведь ты позоришь и меня и папу! Мне стыдно, стыдно!.. — заплакала Саша.
— Стыд не дым — глаза не ест, — тихо ответила Груня. — И не плачь. У меня душа совсем от горя черная, а видишь — не плачу. Пусть люди говорят, а ты не слушай. Ты о себе думай. У тебя свадьба в субботу, вот ты о свадьбе и думай.
— Да зачем мне твоя свадьба? — Саша вытирала мокрые глаза. — Не нужна мне твоя свадьба! Не хочу я замуж идти. Зачем? Чтоб так жить, как вы с папой?
— Вот глупая, вот глупая, — ласково сказала Груня. И подошла к Саше, погладила ее по плечам. — То хотела, то теперь не хочешь.
— Ах, мама!.. — сказала сквозь слезы Саша и убежала в дом.
Груня подождала, пока насытится свинство, убрала корыто, ополоснула под колонкой у крыльца руки и отправилась в пионерлагерь.
Саша наплакалась у себя в комнате. Но долго плакать не приходилось: она отпросилась всего на час, нужно было идти в аптеку. Она умылась и причесалась. И тогда появился отец.
— Где мать? — сердито спросил он, войдя в дом прямо в пыльных сапожищах, хотя у них не принято было ходить в обуви по лакированным полам и ковровым дорожкам.
— Ушла в лагерь, — сказала Саша.
— Ты знаешь, что она натворила?
— Знаю, — ответила Саша.
— Ох, Саша, Саша!.. Что мне делать, как мне жить на белом свете? — Гнат Серобаба заходил по ковровой дорожке, не думая о том, что портит своими грязными сапогами пышный ворс.
— Я сама не знаю, как мне жить, а ты у меня спрашиваешь, — грустно сказала Саша.
— Ах, гадость! За что я мучаюсь? Опозорила, оплевала! Доколь же мне терпеть?
— Папа, не говори так. Это моя мать, и я ее люблю, — сказала Саша.
— А я? Я тебе кто?
— Отец. И я тебя тоже люблю, — ответила она.
— Всех-то ты любишь! Мать любишь, меня любишь, жениха своего любишь. Откуда столько любви берется?
— Папа, не злись, — тихо попросила Саша. — Мне вас обоих жалко. Почему вы не разойдетесь по-хорошему? Всю жизнь вы друг друга мучаете.
— А-а… Ну, спасибо, спасибо тебе!.. — трагическим голосом воскликнул Гнат Серобаба. — Дожился Гнат, дожился!.. На работе меня каждый слесарь уважает, на работе от всех почтение, а дома вот что делается! Дома пекло небесное… Так лучше пошел я. Так и знай: поеду сейчас по колхозам и не ждите меня! Не-ет, теперь вы меня не ждите!.. — И он выскочил из дому, хлопнув дверью.
Вечером Саша сидела во дворе на качелях (они были сделаны, когда она была еще маленькой), чуть-чуть покачивалась и смотрела, как зажигаются в далеком синем небе яркие и тусклые звездочки. Она была одна дома. Мать приходила с работы поздно, в двенадцатом часу, отец, должно быть, выполнил свою угрозу — уехал в какой-нибудь колхоз и неизвестно, когда вернется. Жених ее и будущий муж Гриша Кривошей поступает в Гомеле в железнодорожный институт. Гриша выдержал уже три экзамена и завтра сдает последний. Он четвертый год поступает в институт, вернее, в разные институты. Трижды не прошел по конкурсу и завтра будет известно, пройдет ли он в четвертый раз. Может, и пройдет, может… Но сам Гриша не очень жаждет стать студентом и вряд ли поступал бы в четвертый раз, если б не настаивали родители. Уезжая в Гомель, он сказал Саше, что будет рад, если не поступит, потому что учиться пять лет — это великая мука. Гриша был убежден, что лучше слесарить в депо, чем зубрить книжки.
Саша покачивалась на качелях, смотрела на яркие звезды и не думала ни о Грише, ни о его экзаменах, ни о его письмах, которые приходят из Гомеля и в которых тысячу раз повторяется слово «люблю». И вообще ни о чем не думала она. Просто сидела на качелях и смотрела на звезды.
Иногда она поглядывала на соседний дом, и ей была непонятно, отчего в доме темно, отчего не слышно транзистора, отчего и во дворе не слышно голосов.
Когда стемнело гуще, когда ярче засияли звезды и над деревьями всплыл молоденький остророгий месяц, Саша поднялась с качелей, подошла к забору и заглянула в щель. Окна в доме были закрыты, на дверях висел замок, на замке лежал отблеск месяца. Месяц освещал чисто подметенный дворик, холмики собранного в кучки, подсохшего бурьяна и окна, за которыми никого не было.
Саша тихо ушла в дом, не закрыв ставен на кухне.
Ночью она проснулась, вышла босиком на кухню попить воды и снова увидела из окна соседний дом. Теперь месяц стоял высоко, прямо над крышей, и окна в доме были угольно-черными. И черным был весь дом. Только крыша мягко серебрилась, как шлем, надвинутый на черное квадратное лицо.
Саша попила воды, вернулась в свою комнату и снова уснула.
Поликарп Семенович Кожух слыл культурным человеком не только потому, что носил соломенную шляпу, очки с двойными линзами и сандалеты и поигрывал на скрипке и пианино, но и потому, что все он делал культурно. Если занимался производством домашнего вина, то предварительно стерилизовал посуду, работал в фартуке, а перед работой пятнадцать минут мыл руки проточной водой, то есть ровно столько, сколько моет хирург перед операцией. Если по весне опрыскивал ядохимикатами сад, предохраняя деревья от всяких короедов и листоедов, то облачался в прорезиненный комбинезон (между прочим, Поликарп Семенович не сжег его после того, как оттащил за город труп бешеной собаки), надевал резиновые перчатки и противогаз довоенного образца. Если ставил новый забор в северной части двора (забор в южной части обязана была содержать в порядке его соседка с юга — Марфа Конь), то так культурно отхватывал у Васи Хомута полоску земли шириной в полметра, что Хомуты решительно ничего не замечали. За тридцать лет Поликарп Семенович дважды переделывал северный забор, в результате чего успешно расширил свой земельный участок примерно на метр и десять сантиметров в ширину и почти на сорок пять метров в длину. Весьма культурно Поликарп Семенович уволок у тех же Хомутов четыре узеньких бетонных балки, оборудовал с их помощью в гараже «яму» и теперь, спускаясь в нее, мог удобно смазывать и ремонтировать низ своей «Победы».