— Чисто колдунья, — Майка Ване шепнула. — У ней изо рта дым идет…
— Выдумывай, дым! Это пыль от старости. Она царя пережила! — Ваня легонько дернул отца за китель, отвлекая его от Ефрема, показал на Ксению Куприяновну, похвалился, как пожаловался: — Она велит мне стихотворение выучить.
— Ты о ком?
— Ксения Куприяновна…
— Так и говори: Ксения Куприяновна заставляет меня… А какое стихотворение, Иванушко?
— «Дети, в школу собирайтесь…» На бумажке написала…
— Отменное, Иванушко, нестареющее стихотворение! Учи. И не пора ль тебе спать? И Майе Ефремовне тож. Как, Майя?
— Я от спанья нервная становлюсь, — ответила Майка, — мне сладкое снится, а проснешься, какая польза от этого?
— У ты! — сказал довольный Ефрем, с отцовской ласковостью шлепнул дочь по мягкому месту. — Беги-ка ты, коза, в тарантас…
И они — Ваня и Майка — пошли к тарантасу, взобрались на него, легли на свежий сочный клевер, а выездной председательский жеребчик громко фыркал возле них, всхрапывал, тяготясь одиночеством. Майка прижалась к Ваниной спине, уткнула в него острые локоточки, подышала ему в шею. Он повернулся к ней, учуял, что пахнет от нее луком и консервами из больших американских банок, — отодвинулся, стал смотреть, что делают звезды на темно-синем небе. Майка тут же уснула, во сне брыкалась ногами, смеялась, и он всю ее забросал клеверной травой, только для дыхания отверстие оставил.
Звезды соревнуются, какая из них разгорится сильнее, иные от перенапряжения внезапно гаснут, другие срываются, летят вниз, как в пропасть, и тоже гаснут, — за небом не скучно наблюдать… Слушает Ваня краем уха продолжение застолья. Многие ушли, женщинам ведь рано вставать, но кое-кто остался; дядя Володя Машин пьяно крикнул Ефрему в ответ на его какие-то слова: «Раскомандирился… ишь!.. а я не шестерка тебе, я сам козырной туз!..»
По удлиненному носу и очкам даже с ночного расстояния угадывался отец, — трезвый он, ничего не пьет, не любит спиртного; высоко вскидывая руку, рассказывает Ефрему и другим… Он на все может ответить, все знает, его обо всем спрашивают. «Умный, — думает Ваня, — а вот не воевал…»
Еще Ваня думает, что взрослые совсем не так живут, как можно жить, — они тишине покорились, в надоевшей работе копаются, о еде разговаривают, и не было б войны, так бы сиднями и сидели в Подсосенках, не мечтая о подвигах, о том, чтоб, к примеру, летчиками стать и над облаками вести тяжелый сверкающий самолет или уехать жить в город, где можно ездить на желтых трамваях, даже днем смотреть кино, где милиционеры неотрывно следят за порядком и всегда укажут, куда идти, если заблудишься…
Замечтавшись, он не сразу уловил, отчего так распаленно кричат за столом: дядя Володя Машин, оказывается, кричит.
— Я сы-ыграю! — грозится он, тянет со скамьи гармонь к себе — она издает печальные и сердитые звуки.
— Не нужно, Владимир, — строго отец говорит. — Спать, спать!
— Не-ет, — упорствует дядя Володя, — сы-ыгр-р-раю!
Он тычет пальцем в сторону Ефрема и, задыхаясь в пьяной торжествующей злобе, выкрикивает:
— Ему!.. Не-ет… ему и Алевтине Демидовне! Они, Сергей Родионыч, без тебя тут спелись… спе-лись!.. Я им сыграю! Спе-елись!..
— Г-гад! — тоже задыхаясь, кричит Ефрем: вскидывает тяжелый кулак, бьет дядю Володю в грудь…
И одновременно — в ужасе — голос матери:
— Врет он, Сереженька, не верь, врет!
— Он такой, — хрипло говорит Ефрем, — он непонятный среди нас, Сергей Родионыч. Нас, фронтовиков, столкнуть хотит…
— Не верь, — убивается мать. — Он из-за зависти, Сереженька… Не было-о-о!..
Не было, не было, не было… Это больно входит в уши, закупоривает их, у Вани зуб на зуб не попадает, — выпрыгивает он из тарантаса и бежит к матери, обхватывает ее холодные ноги, толкается лицом в колени и не кричит, требует:
— Не было, не было!
— Конечно, не было, — твердо говорит отец, его дрожащие руки ловят Ваню, никак ухватить не могут, наконец он приподнимает Ваню, прижимает к себе, шепчет: — Ты чего, Иванушко? Ты же сынок мой, Иванушко, сынок!
XII
Завтра в школу, завтра новая жизнь начинается! Звонок слушать, карандашом писать, уроки заучивать… примеры у доски придется решать. 5—3=2. 8+1=9. Можно на черной доске куском мела любое слово начертить. На какую букву? По-ожалуйста! ОСА, ОКНО. А еще в южных странах есть такая скотина — ОНТИЛОПА. Или вот замечательное слово — ОБНОВА. ОБНОКНОВЕНЫЙ.
Сидит Ваня на улице, в тенечке, перед своими окнами, царапает красным кирпичным осколком по днищу прохудившегося цинкового корыта. А отец на завалинке сидит, только что из школы вернулся, длинными руками через диагональ синих галифе ноги оглаживает, ревматизм щупает. Сказал он Ване, что во второй класс его не возьмет, хотя тот, бесспорно, читает и по-печатному пишет. С двумя классами, сказал отец, люди большие должности занимают, считается у них незаконченное образование, а какую ж должность можно доверить ему, Ване, когда он не способен объяснить, отчего земля круглая и в какое море впадает река Волга?.. Так что — побудь в первом — в нем основы всех наук закладываются… Смеялся отец, показывая черноту беззубого рта; спросил, какая птичка по стволу липы прыгает.
— Синица!
— А, и это не знаешь! — обрадовался отец. — Не синичка — поползень! Хвост, смотри, лопаткой, клюв длинный…
— Ну и чего!
— Ничего… впредь знать будешь!
В это время серый в яблоках конь подкатил к их дому рессорную таратайку, в которой рядом с женщиной — Ваня сразу узнал их — сидел безрукий и одноногий бывший офицер и бывший лесничий Егорушкин Николай Никифорович, — в кителе без погон, с пришпиленными булавками бесполезными ему рукавами, с красивой нашивкой над правым нагрудным карманом.
Отец вскочил с завалинки.
— Коля, — сказал он, — Коля!
— Привет, Сережа.
Отец наклонился, поцеловал Егорушкина, головой тряхнул, словно комара или муху отгонял, — упали очки с носа в траву, он на корточки присел, стал искать их у колеса, нашарил, ощупал, долго надевал.
— Не разбились, Сергей Родионыч? — спросила женщина.
— Нет, Александра, — ответил отец.
— Ты, Сережа, привыкай, — сердито сказал Егорушкин, скрипнув зубами. — Я другим не буду.
— Я ничего, — медленно отозвался отец. — Ничего… Я, Коля, от внезапной радости свидания… В дом?
— Меня нести ж надо, если в дом, — упрекая взглядом, возразил Егорушкин. — Ты, Сережа, кваску б!
— Иванушко, живо! — отец приказал.
Ваня в избу побежал, крышку подпола приподнял, спустился в темную прохладу — чтобы зачерпнуть из бачка самого студеного, самого вкусного квасу для заслуженного героя Великой Отечественной войны, чтобы пил он и приятно ему было. На кухонном столе тоже есть квас, целая кастрюля его, но там он теплый… Так спешил, что первую кружку, вылезая из подпола, пролил на себя — снова спускался…
— Ай и шампанское! — похвалил Егорушкин, когда жена напоила его и вытерла губы платочком.
Теперь отец, задумчиво склонив голову, слушал, что говорит ему Егорушкин, а тот подергивал выбритыми, в порезах щеками, строгая улыбка пробегала по его лицу, в зеленоватых измученных глазах стыл холодок и пробивался интерес: будет ли понятно, что он говорит?
— …Райком, Сережа, рекомендует меня секретарем партийной организации. Скажут вам… Мозг у меня подвижный, Сережа, техникум за плечами, опыт есть, и нет, в общем, такой крепости, которую бы не взяли мы, большевики, верно?
— Ты будешь хорошим, Коля, секретарем.
— Поддерживаешь? Спасибо. С нас спрос большой, помнить нужно… Как на фронте: коммунисты, вперед!
— Да.
— А ты где воевал, Сережа?
— Не воевал, понимаешь ли… В экспедициях, военный топограф…
Душно было, калило землю солнце; как от печки несло жаром от серого жеребца, он ронял тяжелую слюну с губ, бил копытом по увядающей траве; Ваня грыз ноготь и смотрел мимо Егорушкина.
— Повоюем теперь, — пробормотал Егорушкин; добавил твердо, щуря глаза: — Некогда, Сережа, на завалинках сидеть, пейзажами любоваться… Я так понимаю задачу.
— Николай, — розовея лицом, сказала Егорушкину жена, — тебе голову напечет — фуражку надеть? Поедем…
— Коля, — с обидой сказал Егорушкину отец, — твою прямоту я уважаю… Начало занятий завтра, я в школе только что не сплю, наглядные пособия клеим, рисуем, и одна помощница у меня, сама как ребенок — Ксения Куприяновна… Чего ж ты хочешь, Коля?
— Сознательности… Работы в колхозе, Сережа, нет? Работа есть! А хоть один плакат с программой эпохи в Подсосенках вывешен, Сережа?
— Мое упущение, — признал отец. — Крой дальше, Коля!
— Постарел ты, Сережа, и очень я тебя желал увидеть…
— А ты молодцом, Коля, и тоже я доволен, что вот как раньше…
Егорушкин двинул подбородком — жене сигнал подал: трогай! Застоявшийся конь резко взял с места; покачивалась обрезанная с обеих сторон, как сплюснутая, спина Егорушкина, неустойчивая и прямая; он высоко держал голову в выцветшей фуражке с черным околышем; взлетала и тащилась за тележкой пыль, было еще непозднее утро, часов семь-восемь, наверно, и стояла небывалая предгрозовая духота, хотелось веселого дождя, короткого, который не помеха для уборки, а облегченье для всего живого… Отец потер пальцами заморгавшие глаза, сказал не то Ване, не то себе — вслух:
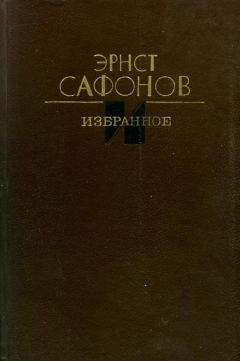


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

